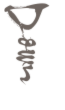О как беззвучно и безжалостно распадается бесформенной грудой ошметков ее разрушенная жизнь. Почему она все еще сопротивляется, все пытается нащупать очертания в этой тьме, за которые можно будет схватиться, как за перила на лестнице разбомблённого дома, обрывающейся в никуда? Отказывается подчиниться, перестать вспоминать, кто она и откуда, раствориться без остатка в чернильном мареве и найти, наконец, покой в беспамятстве и угасании рассудка. Думать только то, что вкладывают в ее мысли они, чувствовать только то, что хотят они, не хотеть ничего, все принимать, всему радоваться, всему покоряться. Разве она еще знает, чего она хочет? Только помнит, что все еще хочет хотеть, хочет быть отдельным существом, хочет говорить "я" и чувствовать, что я — есть.
Она бы хотела отвоевать какой-то кусочек совершенно своего, спрятать в дальнем углу души и знать, вот оно — недоступное никому, кроме нее, вот ее заповедный сад и место отдыха. Но сад открыли невидимым ключом и вошли, и трогали руками цветы, и вдыхали их аромат, и смеялись, и все забрали себе. И она превратилась в шелуху от человека, выеденный плод, где тело было тонкой оболочкой, все еще сохранявшей свою форму, а душа была сожрана и переварена и распалась горсткой праха.
"Они могут изнасиловать мое тело, но душа моя им неподвластна", — это было спорным утешением даже там, на земле, ей ли не знать, что душа намного ближе к коже, чем хотелось бы. Что в конце концов такое душа, как не производимое от тела? И все же там, на земле, еще можно было в это верить — то, что убивающие убивают тело, а душу они убить не способны.
И вот поди ж ты, убили. Или не убили — пока что — но изнасиловали вместе с телом, вывернули наизнанку, вытряхнули, как ненужный мусор, кучу ее воспоминаний, желаний, оценок.
Нет, она не потеряла память, как будто бы, и могла воспроизвести свою биографию, могла повторить имена родителей и описать, во что была одета в тот злополучный день. Но все это как будто выцвело, лишилось всякого смысла. Не вызывало никаких чувств, не представляло никакой ценности. Она думала о Феликсе и о том, что любит его и простила его — и эти мысли были безвкусны, как жеваная бумага.
Остались только чувства, связанными с ними — страх, стыд, отвращение. Как ты посмела уйти от нас, глупая девчонка. Мы тебя догоним, найдем и вернем, мы тебя накажем хорошенько, мы заставим раскаяться, просить прощения, рыдать, мы простим тебя и вернем назад служить нам, и заставим поверить, что это прощение есть великая милость от нас, и ты будешь счастлива, счастлива, счастлива!
Этот человек, который угрозами заставил ее подчиниться и увез с собой, и посадил в клетку другого сорта, разве он не так же безумен, как они, только на другой лад? Она слушала, что он читает и объясняет, и не узнавала в его словах знакомые слова. Она никогда не была по-настоящему верующей, но выросла-то не в пустоте, она точно была знакома с основами этой религии, даже читала этот Коран. Кажется. Она помнила, что читала, но не помнила ни строчки из того, прежнего чтения и ни капли эмоций, которые оно вызывало, может быть, не вызывало вообще? А сейчас слушала в изумлении, эти строки ложились на слух, как впервые в жизни, как нечто не виданное и не слыханное досель, она вообще не понимала, кто и зачем придумал это.
Слова жгли ее изнутри.
Он тоже пообещал ей счастье.
*по поводу персонажа обращаться сюда
** персонаж может быть отдан в хорошие руки, не стесняйтесь обращаться, если возжаждете