
Маркиз Лерайе, граф Фурфур
~после разыгрывания фантов
хранилище гладиаторов
- Подпись автора
у тебя лицо невинной жертвы
и немного есть от палача

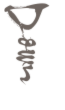
Dominion |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Dominion » Личные истории » Мы и бал [23.08.2024] Экспозиция

Маркиз Лерайе, граф Фурфур
~после разыгрывания фантов
хранилище гладиаторов
у тебя лицо невинной жертвы
и немного есть от палача
Знай Лерайе, как много политических тревог крутится в красивой голове милого графа, когда его член толкается в чье-то бархатное ребристое небо, в тесноту горячего рта, он был бы удивлен. Зачем? Фурфур ему приятен и ему приятно делать подарки. Тем более такие крошечные, что не приходится задумываться о двойном дне. Ровно, как не приходится задумываться о нем в танце, ровно как Асмодей подарил Немусу свою девку не для того, чтобы напоминать Лерайе его место. Иногда события происходят просто так, расслаблено и ради веселья. Наблюдать за Фурфуром одно удовольствие. Он так занят позированием, что именно оно, кажется, доставляет графу всю радость момента, и Лерайе охотно улыбается, поощряя его продолжать. Маркиз так не умеет. Он высыпается из этой маски от любого умелого прикосновения и дальше плохо помнит себя, пока пьяная дрема не отхлынет электрическим экстазом. Но ему приятно, что гость исполняет для него и достойной публики этот маленький спектакль. Легко скатится мыслями в прошлое и представить его в королевском гареме. На миг почувствовать себя тем ныне покойным… Но ненадолго. Залюбуешься - и тебя съедят тоже. Маркиз ни на мгновение не заблуждается на счет остроты этого манкого влажного прикуса. Шлюхи делали королей во все времена. Им ли не знать.
Рем скатывается языком по спине графа, обходит губами контуры острых лопаток, считает поцелуями четки позвонков, пока Ромул поднимается в тот миг, когда желание делается слишком острым, не позволяя гостю пролиться, придерживает это напряжение на потом, но ищет губами мягкий, блудливый рот графа и снова толкается в него языком, вмазывая в десны его собственный солоноватый сок и мускусный аромат разгоряченной промежности, придерживает его объятием, когда язык двойника проникает в между крепких аппетитных ягодиц и толкается в тесноту знойного нутра, неспешно выдразнивая ее до разнузданной податливости, а потом плавно входит глубже, стоит бедрам подаются навстречу. По точеным ногам Фурфура течет слюнная пенка. По чулкам из-под меток хватки убегают похабные стрелки, но графу это к лицу. Никто не сумел бы носить это украшение так эффектно. Галерея замирает хриплым дыханием десятков ртом, подтекающих слюной.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Мысли в голове Фурфура - понятие вечное. Есть не так много вещей, которые способны оставить его в блаженном беспамятстве - это и не каждому наркотику удается, а граф долгое время искал то, что может остановить бешеное движение шестерёнок за этим высоким лбом.
Что там, даже Муру не всегда удается вымотать его до такого беспамятства, чтобы этот кипучий источник энергии, который, кажется, мог бы питать все электричество Зимимайи, обрёл бы наконец-то покой.
Сейчас же он, для разнообразия, молчит, заполняя эфир не бесконечным незатыкающимся комментарием о происходящем, а вздохами и стонами. В конце концов, зачем напрягать язык для тех, кто едва ли разберёт, что он имеет ввиду?
Или для того, в ком этот треп едва ли найдет отклик?
Ничего в этом Аду не происходит просто так, любое действие расходится, как круги по воде и ему нравится цеплять эти нити смыслов собственными когтями.
Сейчас Фурфур весьма занят - его удовольствие тесно сплетается с картинкой, которую он хочет для себя создавать и он только стонет, плавясь в чужих руках словно горячий воск.
Он громко и разочарованно стонет, когда так и не получает разрядки, и размыкает ресницы, глаза за которыми - мутные от желания, затянутые пеленой, в окружении дрожащих ресниц.
Елозит требовательно, капризно выпрашивая больше, задыхаясь и почти откровенно всхлипывая от несправедливости жизни, маркиза, этих существ, стоящих на его пути к удовольствию.
Он кажется почти забывшимся, окончательно потерявшим голову, нуждающимся сейчас только в одном - в крепком члене внутри, в этих жёстких прикосновениях, в том, чтобы показная невинность наконец-то была поругана, втоптана в грязь и беспощадно сломлена.
В поцелуе он почти задыхается, плывет, руки его безвольно соскальзывают по чужим плечам, лишь на миг цепляясь когтями. И навстречу движениям чужого языка граф двигается с нетерпеливой жадностью, стараясь получить больше - не гибкий язык, удовольствие от которого даже приблизительно не сравнится с удовольствием совсем другим.
Граф снова разочарованно, жалобно стонет, почти хнычет, вбивая когти под чужую грубую кожу в капризном требовании.
И взгляд, который он поднимает на маркиза, жалобный, полный мольбы, такой, кажется, что ещё мгновение и по этим щекам градом покатятся жемчужные слезы, смешанные с поплывшей подводкой.
у тебя лицо невинной жертвы
и немного есть от палача
Воздух делается густым, наливает сладкиv и терпким ароматом случки. Нет в мире ничего честнее этих моментов близости, когда на мучительно короткие минуты ты забываешь, кто ты и зачем ты сейчас здесь, мир меняется неузнаваемо, сплавляет вас сперва общим приключением слов и прикосновений, спутанных эмоций, реверансами воль, расшаркиванием хлестких эпитетов или пощечин куда менее хлестких, а потом роняет в безудержную, оторопелую погоню за самым коротким удовольствием в мире - общим кумиром. Словно в этой игре можно найти толику искренности или хотя бы забыть об ее отсутствии. Только сейчас ты действительно нужен, пусть как функция, но функция самая желанная. Торопливо, заполошно желанная. Когда-то Асмодей сказал ему «с тем, что в постели и на тарелке не надо церемониться», Лерайе понравилось. Но фраза эта всплыла некстати, вплавилась в скольжение тел, в аромат испарины, в симфонию стонов, жадных и умоляющих, в гул толпы, выродилась в урчание водопада, в детскую возню на колкой траве, в алчные ночи дворца Корсоны… Они ведь ладили, вместе искали, охотились, были по-своему счастливы, все втроем – Левиафан, Асмодей и Лерайе. Невозможно наивные, бесконечно древние. Такие древние, что память стирает лица, оставляя лишь спутанные контуры фигур, на которые маркиз сейчас смотрит с ненужной, неуместной печалью. Когда все превратилось в пустыню?
Путается пальцами в смоляные волосы и медленно истаивает в сумраке плещущихся факелов. Ни к чему омрачать графу озорство. На прощание Лерайе дарит гладиаторам кляпы. крупные темные рубины на кожаных ремнях. Это не мера предосторожности. Это мера забавы.
Сатир потянул Фурфура с собой, усаживаясь на тюфяк у решетки. Они двигаются как поршни внутреннего сгорания в удивительной синхронии: когда один опускается, другой встает. Так слито, что невольно задаешься вопросом, существуют ли они отдельно друг от друга. Каменный сатирий стояк всаживается в тесноту нежного нутра, вспарывает, растягивает влажный подбой хрупкого тела, заполняя его собой, пробуя на разрыв жестким размашистым движением на хриплом выходе. Дыхание согревает лопатки графа. Ромул забирает на затылке шелковые пряди, золотые как самый нежный закат в раю, окунает в них жесткие пальцы. Оружие неминуемо дарит рукам эти шершавые мозоли - те же, что сейчас царапают бедра Фурфура на каждом жестком, требовательном рывке, точно сатир намерен просадить сквозь это тело новую стальную хребтину. Взмокшая головка толкается в губы, вмазывается в жар рта, равнодушная к остроте прикуса, и привкус сатирьей спермы солоно жжет язык. Между распахнутыми бедрами густая шерсть дает в лицо плотным мускусом разгоряченной желанием промежности. Рельефный в рисовке вздыбленных вен, член тяжело толкается в глотку, лишая воздуха в тесноте ломкой гортани, не оставляет графу шанса снова вдохнуть, ходит массивным поршнем так, что его движение в горле видно обитателям соседних клеток. Видно стоящего на коленях хрупкого, гибкого гостя и влажные широкие плечи сатира позади него. Камень пола ссаживает эти колени на каждом движении. Никто не знает, кем гость приходится маркизу: друг, враг, раб или заложник, главное - он центр общей концентрированной похоти. Любой здесь пожелал бы оказаться на месте каждого из близнецов, а лучше обоих сразу. Кое-кто даже может заменить их обоих одним собой. Ритм делается жестче - спаянный, пьяный гон тонет в сдавленном дыхании, в хрусте зубов по рубиновым кляпам. Между лопаток Фурфура капает слюнная пена, пузырится, точно кожа - раскаленная платина. Сок подтекает по бедрам гостя, обрывается жирными каплями с члена на всяком движении. Влага пропитывает тюфяк и жесткую черную шерсть в паху сатира.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Одного движения опустившихся и тут же приподнявшихся вновь ресниц хватает для того, чтобы взгляд за ними, из томного, ничего не осознающего, полного порочного удовольствия, бесконечно мутного, вдруг сделался острым, почти злым.
Этим взглядом граф Фурфур одаряет то место, где ещё мгновение назад стоял гостеприимный хозяин.
Его пухлые губы, уже искусанные, исцелованные, хранящие на себя следы порока, чужой слюны, крови и похоти, кривятся - не неприязненно, скорее жёстко.
По мышцам, обтянутым белой, словно снег, кожей, со следами поцелуев, касаний, укусов и отметин, проходит дрожь, словно граф сдерживается от того, чтобы не разметать сатиров по стенам, не оставить их тонким слоем внутренностей, крови, изломанных костей, шерсти и прочего здесь до ближайшей уборки.
Он жалеет о том, что его добыча сейчас так недосягаема - сейчас, в пылу желания куда более настоящего, чем та комедия, что граф ломал здесь весь вечер, ему более всего хочется намотать на кулак эти роскошные темные волосы. Сломать об стену эту тонкую, фарфоровую, змеиную и откровенно паскудью красоту.
Провести языком, слизывая кровь выступающую на чужой коже от его собственных когтей.
Втоптать в пол, не жалея, не контролируя тяжесть касаний - что там маркизу будет стоить один раз вынырнуть из купели.
Присвоить, сломать, вывернуть наизнанку неподатливого, выворачивающегося из пальцев, словно угорь, маркиза, всегда находящего лазейку в любой ситуации, чтобы сделать все по-своему.
Он тормозит тело, почти рефлекторно, под тяжестью эмоций, тянущееся к тому, чтобы сменить облик. И замирает, сгоняя наваждение, отгоняя это темное, наполняющее разум ощущение "настоящести".
Графу нужно пару мгновений, чтобы толкнуть этот маятник снова, чтобы опасть в объятья сатиров привычным, изнеженным мальчишкой, капризно кривящим губы.
Чтобы позволить оттащить себя на тюфяк, ленясь требовательно впиться когтями - ему не нужна поверхность, хватило бы и воздуха, но пусть будет так.
Он громко стонет, задыхаясь от смеха, когда все же чувствует внутри себя твердость чужого, непомерно большого, члена. И мешает стоны со смехом лишь громче, сильнее, когда чувствует, как ранится до разрывов тело, отзываясь болью, похожей на разряды тока.
Лишенный единственного интересного зрителя, он больше не пытается драматизировать для тех, кто спрятан от него за решетками. Движения Фурфура, безусловно принимающие, становятся требовательными и жёсткими до того, что не всегда понятно, то трахают ли сатиры его или он трахается об них, словно об излишне большую и своеобразную сексуальную игрушку.
Он не поднимает глаз, хотя знает, что этот взгляд был бы хорош сейчас, когда его губы, уже кровящие в уголках, тугим кольцом обхватывают поршень чужого члена, каждый раз добивающий до самого горла.
Фурфур смотрит сквозь ресницы лениво, там, в фиалковом мареве, нет ни страсти, ни желания, лишь лёгкое любопытство, ожидание причитающегося и принадлежащего ему удовольствия, но не более.
Но кончает он только тогда, когда в лёгких кончается воздух, окончательно вытесненный из него, кажется, одновременно с двух сторон. На той самой, излюбленной им, грани полуобморока.
И обмякает в сатирьих руках-лапах, милостиво позволяя им закончить тоже, нежась в послеоргазменной полудремоте словно на волнах.
у тебя лицо невинной жертвы
и немного есть от палача
Вы здесь » Dominion » Личные истории » Мы и бал [23.08.2024] Экспозиция