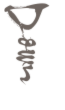Имя демона.
Оробас, или Авнас, или Аи, или Гласеа-лаболас, Кшу, Леонард, Лерайе, Лоунтри, Ламори…
Уникальный набор букв, имя демона это нечто больше, чем слово. Внесенное в адские реестры, вписанное в печать – зримый и явный любому глупцу знак сокрытого, тайного знания, владеющие которым ведают, что в рисунок можно увлечь нечто большее, чем знак.
Их рисуют мелом, углем или кровью, краской, чернилами, отпечатывают на деревянных, металлических и каменных клише, их выцарапывают на глине, на стенах, выжигают на себе, вырезают на себе, вычерчивают ногтями в безумном желании призвать демона… Имя и печать. Имя в печати. Печать внутри, как завершение формы, начинающейся с тела и тени, с падшей души, разросшейся в нечто… ужасное, потрясающее, владычествующее над мирозданием. Они уже не различают добра и зла. Они зовут свой дом Адом, однако им известно, что лишь их волей измеряется, насколько темным ему следует быть. Им просто нравится все темное, оттого они зовут себя демонами. Могли бы не звать. И не зваться никак, быть свободными. Но они любят свои имена и любят свою тьму.
Имя демона.
– Лоунтри.
Слово, сотрясающее воздух, можно сделать словом призыва и словом повеления. И это тоже тайное знание. Миллиарды смертных могут жизнь потратить на безумные повторения знаков, похищенных из Ада и выведенных в одной глупой старой книге. Могут отливать перстни и рисовать соломоновы кольца и треугольники на полу, все это не имеет никакой власти. У него есть власть, кто сам демон. Пьяный, юный, смеющийся, праздный – он не различает, где зовет, а где призывает, он просто тормошит белобрысого мальчишку, обмякшего у него на руках и одновременно затягивается кальяном:
– Эй, Лоу, Лоунтри, иди к нам!
Как будто в этот момент не было ничего важнее. Оклемался бы к утру, но Оробас, воняя дымом, шептал ему на ухо, и держал за плечи: иди ко мне, ну же, куда тебя заволокло этой спиралью? Ну какая глупость, право же, что ты там увидел… ну, где ты там? Алый бархат? Ну вот же он, диван и обивка на нем, пошлейший узор, смотри, завитки и веточки, и смятые плоды, длинные как кроличьи морды… Где? На площадке, где битый камень, где ты впился в копыто, и я поднял его, чтобы рассмотреть? Как же давно это было, давно, а, Лоу? Химера? Я ничуть не хуже. Не лучше. Убери кальян, Каруджи, дай мне место, вот я… как тебе? А? Как я – тебе?
И демон со шкурой серой как пепел действительно отодвинул подальше звякнувшую посуду, оставил свой укоряющий взгляд и, рассмотрев, как нечто извивается и разваливается, и копошится на полу, поджал губы:
– Непригоден для описания – это подойдет?
У него есть разговор.
У него есть очень серьезный разговор, но с кем ему сейчас говорить? С бесформенным, который поднимает уродливую длинную башку, на которой глаза как созвездия точек, паучьи, обезьяньи, темные как масло, в котором – в каждом – плавает по поперечному зрачку? Чтобы три рта, обтянутых складками, приоткрытых и капающих пеной, ответили что-то о том, что на этом свете есть кое-что, что не его, Каруджи, собачье дело? Непомерная, толстая и длинная шея лоснится угольно-черным, вороным, и складки, что раскрываются чудовищными жабрами и дышат, выбрасывая пену, тоже черные внутри, и влажно блестят, и на них наползают волосы, грива его, все лезет и лезет кольцами, ищущими пальцами, стягивается на запястьях, сползается вместе, слово отдельное и живое, и дальше горбами клубится тело, еще не закончившееся, все еще в судорогах и волнах, будто там, под вороной шкурой, бегают и дерутся мыши.
– Что будет, если стереть имя? – быстрый вопрос, кажется, застал Оробаса на середине преобразования и заставил остановиться. – Ты пойдешь к ним с этим? Ты это им покажешь, чтобы эти ублюдочные старцы приняли тебя как равного? Ты понимаешь, что они тебя ограбят и вышвырнут? Или еще хуже!
– Никто мне не соперник, – пасти исторгают ответ, и грохот дает знать, что там, к этим пастям идет три горла и три голоса резонируют друг с другом.
– Ты просто дурак, – демон с серой шкурой поднес мундштук к серым губам и прикрыл глаза.
Оробасу не интересно. Никого он не боится и никто его не ограбит, его идеи и их воплощение слишком глубоко упрятаны в его суть, запечатаны, заслонены именем, чтобы он боялся подобного. Кто возьмется читать и распутывать – просто не успеет раньше, чем будет стерт, сердце его, имя его станет уничтожено, удалено отовсюду и все утратит всякий смысл. Любопытство, злой умысел, вражда и любой смысл. Имя демона это больше, чем просто буквы.
– Лоунтри!
Тройное эхо. Оробас, вытянув длинную морду, ластился, лез и истекал липкой пеной, и грива на его шее, черные живые змеи, лезли и ласкались, и тянули за собой.
Ну, погладь меня, я же ничем не хуже тех химер, что разводит Астарот в своих скотобойнях, погладь, и прикоснись, где шкура выступает над извивами вен, где собирается мутный сок, где горячо и упруго, и черным-черно… тронь меня, и не оторвешься, возьми руками слипшиеся волосы, что извиваются и обвивают, оседлай меня, заберись на широкую спину, хочешь? А? Хочешь?
- Подпись автора
такие дела.