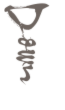Анаимон, как дрожь под ногами, как гулкий колокол, нет, один звук его. Отголосок древней бронзы. Под сумрачным низким небом вдоль всей стены непройденного и непобежденного Лабиринта – нагромождение кубов черного камня, искривленных и древних. Некоторые украшены резьбой, некоторые – рядами статуй, изображающих то стадии превращения человека в беса, то танец египетской жрицы в святилище Исиды. Некоторые испещрены надписями, которые уже не прочесть, кладбища утраченных языков как немой укор всем не сохранившим знания. Место изменяется, и ветер, проходящий между седых от времени и соли углов и граней, то и дело натыкается на что-то новое, ранится об острия, завывает гулко, порождая этот странный отзвук, будто здания поют. Основания кубов уходят в брусчатку, что выложена на тысячелетия позже их постройки, и некоторые строения ушли в недра города уже более чем наполовину. У этого места есть пристойное ему имя, есть отданное ему слово, но произносить его отчего-то не любят те, кто приходит сюда. Наглецы, жаждущие знаний и славы, могущества и нового, чистого будущего, как будто в Аду есть хоть какое-то будущее, они скоро заражаются странным суеверием, и редко когда говорят об этом месте – Наан. Они почтительно называют его Основами, или никак не называют вовсе.
Вероятно, дело в противоречии этого места всей их долгой, чудовищно долгой по людским меркам жизни. После ста сорока четырех привыкая к своему могуществу, они скоро обретают гордыню и находят вкус во власти особого рода – власти изменять и искажать, создавать и уничтожать. Глядя на себя, они себя почитают отныне силой, влияющей на отданный им мир, однако Наан все переворачивает с ног на голову: это место, которое изменяет их самих. Оттачивает как инструмент, обдирает лишнее, стесывает, соскребает с души все, что ей помешает быть острой, и жесткой, и пригодной для чего-то нелюдского. Не всякий скажет, что преображение мучительно, что это боль, рахве только не всякий способен назвать это болью и кричать, когда больно. Оно изменяет. Переписывает наживую. Хранит знания, но не делится ими, желает получить, но не принимает даров, жаждет сделать из явившихся сюда демонов что-то еще, но отторгает их, едва начав.
Основы пугают их, но они не сознаются в своих страхах. Потому что так им велено, так уложено среди черных стен, где черные каменные танцовщицы шагают вперед в экзотической пластике, и простираются ниц.
У Наана нет стены, он сам – сплошная глухая стена. Вход – высокий проем в несколько десятков футов, он прорезает стену и достает до потолка, роняя внутрь сумрачный свет, и это почти единственный дневной свет, попадающий туда. Вход всегда граница, всегда грань, тоже острый, как все внутри и белокурый человек в щегольском темно-красном плаще поднялся по широким и глубоким ступеням, но не дошел. Распался тенью. Отворотил в сторону уродливую многоглазую морду, опустил ниже и с нее закапало что-то жидкое, слизистое. Полый резкий звук – так копыта встречались с каменным полом, а потом тень слилась с тенью, его не стало видно и только звук его шагов еще долго исчезал во мраке. У некоторых, кто приходит в Наан, есть привилегия не быть ободранным до самой тени, преодолевая его порог. Не у всех.
Шагая, он втянул лишние глаза, приобрел породистую стать, шелковистая шкура подсыхала, чтобы залосниться, ловя малейший блик любого встреченного светильника. Оскаленные рты преобразились в мягкие лошадиные губы и Оробас сдержанно улыбнулся встреченным знакомцам, моргнул ресницами длинными как ночь. Несколько лет назад его привычки раздражали наставников. Потом все привыкли. И он сам привык, сжился со звериной шкурой.
Привилегия демона – исследовать время и сделать своим союзником и слугой. Они всегда приходят вовремя. Никто не ждал и никто не опаздывал, когда в гулкий зал вошли шестеро, и за ними – черный конь Оробас.
Это был Хаагенти, и край его пурпурных одежд отливал золотым тяжелым шитьем, а лицо скрывала тень.
Это был Каим, и черное оперение дрозда лежало на его плечах.
Это был Агарес, седобородый и маленький как ребенок, с уважением склонивший голову, приветствуя всех собравшихся, и его крокодилоподобный второй вполз по каменным плитам вслед за ним.
Это был Оллин, вошедший, не касаясь пола.
Это был демонический учетчик Руфус Ханц, явившийся, чтобы внести в свою книгу печать и имя.
И это был Густав Димендо, обычный человек, что жил и умер, и попал в Ад.
Проем закрылся, как только длинный вьющийся кольцами конский хвост втянулся за порог. Во мраке загорелась ручная лампа в руках учетчика, да отразились в ней собирающие свет лошадиные глаза. В пустом зале не было мебели, только два ряда титанических колонн, покрытых письменами и уходящих куда-то.
– Взгляните на него, – медленно произнес Оробас, громче, чем обычно говорят люди, и его сильный гулкий голос забился, порождая эхо.
Пять пар демонических глаз уставились на седьмого и тот отступил на шаг, поежился от того, как их взгляды надавили, не коснувшись, разобрали его на части, исследовали от первой до последней строчки и не нашли ничего, кроме заурядной человеческой души.
– Открой реестр и взгляни на него, – черная морда поворотилась к учетчику и тот раскрыл свою книгу, повелел, извлекая записи:
AVY25617
запись: 0016721
№2011894224 учтен: GILLEAMIL
Имя: Сен Хи Чжоу
Годы жизни: 03.03.1643 – 27.06.1684
Циклов: 8
KVE85002
KVE85002
запись: 0016722
№2011894225 учтен: HELAIMU
Имя: Густав Димендо
Годы жизни: 17.05.1668 – 27.06.1684
Циклов: 49
EEA22390
EEA22390
запись: 0016723
№2011894226 учтен: ASTAROT
Имя: Джули Глесси
Годы жизни: 01.08.1672 – 27.06.1684
Циклов: 81
FAD80112
– Посмотри на меня и назови свое имя, – Оробас повернул длинную тяжелую морду к человеку, украдкой рассматривающему запись о себе самом.
– Я Густав, милорд, – негромко сказал он, но опустил глаза, не стал смотреть.
И что-то переменилось. Что-то быстрое и неуловимое, будто рука, вычеркнувшая неудачную строку.
– Посмотри на меня и назови свое имя, – повторил Оробас.
И тишина стала ему ответом.
– Тогда откройте реестр и напомните ему его имя.
И из книги были извлечены такие записи:
AVY25617
запись: 0016721
№2011894224 учтен: GILLEAMIL
Имя: Сен Хи Чжоу
Годы жизни: 03.03.1643 – 27.06.1684
Циклов: 8
[стерто]
[стерто]
[стерто]
запись: 0016723
№2011894226 учтен: ASTAROT
Имя: Джули Глесси
Годы жизни: 01.08.1672 – 27.06.1684
Циклов: 81
FAD80112
– В таком случае прочтите его имя, кто он? – словно похваляясь, Оробас обернулся к четверым оставшимся, но те не ответили, изучая человека перед ними.
– Ты исказил его и отнял память, – пренебрежительно заметил Каим. – В иных случаях с этим справляется и вино покрепче.
– Внести изменения в книги реестра несложно, – качнулся капюшон Хаагенти. – Они не предназначены для того, чтобы противостоять шалостям праздных студентов.
– Агарес, прочти глубокий реестр и верни этому бедолаге его прошлое, – повернулся к четвертому Оллин и что-то хотел сказать еще, но умолк, потому что Агарес также молчал.
– Это мошенничество, ты просто привел неучтенного человека и изменил книгу, – поторопился сказать Каим и оскаленная морда оказалась прямо перед его лицом.
– Посмотрите на меня, наставники! Вы знаете, кто я? Вы знаете мою семью, вы знаете мои имена! – Оробас рассмеялся, радостно, чуть нетерпеливо, потому что ждал, ждал этого момента и дождался.
Что-то переменилось и теперь никто не произнес ни слова.
Человеческое имя перестало существовать и тот, кто стоял перед ними, был только Оробас, и никто больше. Никогда. Ни для кого.
И каждый пытался вспомнить, потому что твердо знал: где-то в Аду существует семья, отпрыском которой он был, которая отыскала его и взрастила демоном, как и иных своих старших членов, как это принято среди знатных или просто богатых родов, но что это была за семья? Была ли она? Меньше минуты назад о ней было сказано с полной уверенностью, нужно только свериться, напомнить, узнать, и это казалось настолько простым делом, что каждый молчал, пытаясь справиться с ним, и каждый не мог.
– Глубокий реестр не содержит сведений, – наконец, произнес Агарес, вернувшись из созерцания, поджав одну ногу, уселся на спину крокодила, который уже отворотил морду, собираясь отбыть, обернулся: – Все же я бы хотел увидеть письменное описание этого эксперимента. Также я бы попросил не производить и не разглашать подобные операции с глубокими реестрами без крайней необходимости… ваше высочество. Руфус, будьте любезны, внесите дополнение в остатки записи о нем.
Последние слова донеслись, словно из отдаления. Крокодил принялся выцветать и пропал совсем вместе со своим наездником.
Тишина продлилась еще немного, пока учетчик, перелистав реестр, извлекал из него другую запись, также теперь ужатую с одной стороны лаконичным обозначением «стерто», и вносил туда пометку о том, что некий демон отныне имеет титул и печать.
– Оставьте образец печати, – светя лампой, он показал на раскрытую страницу.
– Левое переднее копыто, – иронично подсказал Оллин, но Оробас и так стоял на трех ногах, поджимая четвертую, с которой с самых слов старца творилось нечто непонятное.
Не с первой попытки, но вышло: странный рисунок, напоминающий упрощенную схему души из древней книги.
Кто-то открыл выход, предлагая убраться восвояси. Оробас ушел, стараясь не прихрамывать и едва успел услышать тот же насмешливый голос, но слов уже не разобрал.
- Подпись автора
такие дела.