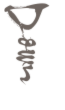Солнце зашло, недолго провисело над душным Вавилоном: огрызок его Башни далеко на юге как больной зуб, свет над ним желтый как одинокая свеча, как фонарь на дальней стороне улицы, как тусклый нимб на старой иконке. Настоящий Вавилон, не басенный, а тот самый, которым пугали когда-то давно и безумно далеко отсюда. Мы в Аду, родная, мы в Аду.
Что с этим делать? Хочешь пей, хочешь в карты играй. Крутись как можешь, деньги от ветра не делаются – китайцы так говорят, что ли? Шумные соседи, мелочный народец. Мы в Аду, родная, и теперь соседей у нас здесь – не перечесть, сложно сказать, насколько Вавилон больше нашей милой Москвы. Ну и к черту все, правда же? Ах, не принято здесь говорить – к черту, все в бездну посылают, а почему – не говорят. Слыхал, будто под нашим Адом она, черная пропасть, но то похоже на сказки. Нет ничего, что бы народ местный не измерил и куда бы длинный нос не засунул.
Он сидел в кресле и курил изогнутую трубку. В трубке – хороший табак, местный. В Вавилоне все лучшее: и табак, и вина, и женщины, а больше падшей душе и не нужно. В квартирке на Шемской тесно, вытянулась она на третьем этаже над двориком, стиснутая с одного бока общим коридором, но кухонька есть, зала, столовая, кабинет и три спаленки, по утрам приходит экономка, в обед приносят газеты с почтой, можно жить. Хотя и скромно: постоянной прислуги нет, а библиотека громоздится в кабинете, тесном как телефонная будка, стыдно, стыдно! Он снова сунул в пасть мундштук трубки – необычный, плоский. Потому что у него пасть, а лицо его – морда черного лиса. Никто не спрашивает, почему, и правильно. Как горько было бы Сонечке смотреть на его красивое человеческое лицо, когда сама она так и осталась бесовкой, похожа то ли на собачонку, то ли на чумазую обезьянку – все выходит человеческим, а лицо нет. Будь проклят этот Ад, самое дорогое норовит отобрать, в самое больное ударить. Не смогла Сонечка подняться, страшный удар для нее, но что поделаешь, придется за двоих быть сильным.
Он поднялся с места, прошелся, встал напротив окна. Глаза бездушные, янтарные, поймали последний отсвет солнца и вытянулись лисьи зрачки, острые как у змеи. Поскреб когтями грудь в вороте бархатного халата – где мех исходил на нет и белела сероватая грубая кожа. Марку бы позвонить, да отменить пятницу. Не до покера, пусть сами играют, а им поработать бы… в отражении в стекле ему видно себя. Держа трубку в руке, растянул пасть, показал зубы – улыбнулся.
Сонечка позади спала на диванчике, обняла подушку полосатого шелка, как ребенок – материно колено. И хочется дотронуться до русых волос, заплетенных на затылке, теплом ее согреть пальцы, без слов и без взгляда узнать, вспомнить, что есть рядом любимая, но нельзя. Проснется, чуткая, и он не смел касаться. Есть дорогие вещи в этом мире, в проклятом собачьем мире, бессмысленные вещи, хрупкие и глупые, но поди ж объясни это сердцу, заходящемуся от нежности и жалости.
Смерть мы прошли, и ужас прошли, жизнь земную позади оставили, в кипящем море человеческом друг друга отыскали, а оно бурлит все и клокочет там, за окнами. Безумие там и чудовища, дьявольские тени закрывают небо так, что страшно смотреть, там земля расколотая и небо расколотое, но что оно все, когда на диване за спиной она сладко спит, колени поджав, и кружева юбки спадают до пола... Лис улыбается, глядя своему отражению в глаза – все же есть, ну чего ты еще хочешь? А не знает, чего хочет, потому что хочет все на свете, и неисчерпаема жадность его, проклятье и мука.
[nick]Atli⅋Sonechka[/nick][status]зашли с козырей[/status][icon]https://upforme.ru/uploads/001c/21/d6/3/909214.png[/icon]
- Подпись автора
такие дела.