
Daemon ex machina
Даже в многомиллиардном Аду бывают случайные встречи старых знакомых. Ну как не встретится, если возникла потребность прогуляться по корсонской пустыне.
Время:октябрь 1890
Место: Корсона
Участники: Асмодей, Оробас, Левиафан

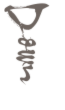
Dominion |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Dominion » Летопись Ада » Daemon ex machina - октябрь 1890

Daemon ex machina
Даже в многомиллиардном Аду бывают случайные встречи старых знакомых. Ну как не встретится, если возникла потребность прогуляться по корсонской пустыне.
Время:октябрь 1890
Место: Корсона
Участники: Асмодей, Оробас, Левиафан
Только тот, кому доводилось самолично спускаться в подземные коллекторы Старого Вавилона в компании месье Брюнезо, одержимого идеей чистки, расширения и модернизации водостоков может с чем-то сравнить запах миазмов, тянущихся из глубоких трещин между каменными осколками, по которым всякому, желающему полюбоваться видами Корсоны, приходится прыгать, если он лишен способности летать.. А стоически переносить едкий дым практически стелющихся по земле облаков, не сосредотачиваясь на том, как тот ест глаза и оставляет на коже слой маслянистой копоти, мог лишь тот, кому случалось многие сотни раз вести светские беседы с Астаротом о прекрасной погоде в Зимимае и не кривится от вони горящего человеческого жира в топках его мусоросжигателей, когда этот самый пепел заказывал в течение полутора тысяч лет лет, чтобы получить его в количестве, достаточном, чтобы создать пепельную пустыню примерно на одну двенадцатую площади Доминиона или достаточно прочный раствор для кирпичей, из которых строится самая высокая башня в Вавилоне.
Имя героя, в свое время преодолевшего все эти испытания, было хорошо известно в Доминионе, но едва ли ассоциировалось с мрачной Корсоной, куда его привели отнюдь не дружеские чувства к её единственному обитателю. Асмодей в облике крылатого быка летел над серой пустыней вслед за практически неразличимым во мгле бесом-стрижом, если бы у стрижей были витые, задорно торчащие рожки, а птичьи лапы завершались копытцами. Гонец этот был на редкость смышленым – другие бесы и не добираются, делая карьеру, до сенаторских дворцов, а потому, уже отправляясь к Левиафану, Асмодей знал, что ему придется иметь дело с демоном не только любопытным до абсурдной наглости, но и сильным. Но вот с кем – бес не знал. Хотя описал незваного гостя во всех подробностях. И Асмодей , мудро готовясь к худшему, надеялся все же, что ему повезет, а кони – вообще существа любопытные.
Не повезло.
- Ну почему из всех миллиардов демонов, - в бычьей своей ипостаси демон обладал голосом гулким и утробным, - в Корсоне я встречаю именно тебя?
Дважды не повезло.
Окажись жеребец незнакомым, Асмодей мог бы сделать вид, что встретились они абсолютно случайно. Ну и что, что не на аллее Эдемского сада, где подобные случайности были в порядке вещей, а в самой малонаселённой части Доминиона – мало ли, кто и где любит прогуливаться.
Трижды.
Самая большая проблема в Доминионе – это невозможность за один раз убить неугодного человека, даже если тот ничего не способен противопоставить в силе и магии. Именно этот нюанс портил Асмодею жизнь последние несколько десятков столетий если не каждый день – он вовсе не был кровожаден, то каждый четверг с тех пор, как в Доминионе появился Сенат.
Конь Оробас предстал перед ним воплощением мощи и грации своего звериного облика, когда поток воздуха, пришедший сверху, рассеял клубы зловонных облаков. Поток этот был вызван ничем иным, как кружившим над этим местом Левиафаном, бледное брюхо которого как раз проплывало над демонами.
- Решил навестить старого друга и напомнить ему о встрече в Сенате? - осведомился он под аккомпанемент влажного хруста, доносившегося из под облаков – Левиафан, занятый пожиранием собственной плоти редко издавал другие звуки.
- Или присматриваешь живописное место для виллы подальше от Сан Домини?
Время безучастно. Сколько бы ни прошло в серых сумерках, в завихрениях ядовитого пара, время не изменит здесь ничего, только камни обколет по краю, обглодает, силясь, как беззубый старик.
Время бессильно, но тот, кто стоял над пустотой, хотел и мог перевернуть закосневший порядок. Думал, что мог, и почти наверняка.
Неподвижный в тумане, он наблюдал, как мимо медленно проходит сияние, поджигающее туман – два огромных огня, потом один. Глаза великого Дракона, проплывшего мимо, не заметившего незваного гостя, и дальше – только ряды роговой чешуи, бегущей по изгибу тела, плавники, распарывающие воздух в зловещей тишине. Назвать это своей добычей мог только безумец; непомерное, невообразимо огромное тело, туша, глыба, проплывающая мимо, подавляла одним своим присутствием, волна неестественного жара от шкуры накатывала, рассеивалась, расходилась. Тот, кто стоял, попирая пустоту, видел и чуял, и содрогался внутренне, не мог не содрогнуться, но был тверд в своем намерении попробовать. Если не пробовать, ничего не получится, ведь так? Так ведь?
Желтые глаза с поперечными зрачками застыли в полной безучастности; Оробас все видел, но взгляд его был обращен внутрь. Тело зверя, шкура зверя, в которую был обряжен живой и злой разум, не имело никакого значения, ничто в тот момент не имело значения, пока длилась странная медитация, стояние над бездной в ожидании момента, когда он достигнет состояния и точки, после которой он сумеет исторгнуть безжалостный приказ. Он не знает, как он будет исполнен. Он только знает, как материя валится внутрь себя, добела сжатая его могуществом, и там, в этой белизне, может раствориться даже великий Дракон… наверное, может. Белизна против красноты, словно перерождение философского камня в тигеле сумасшедшего...
Но ему помешали.
Кто-то пересек пепельную пустыню, разнес весть о себе ударами крыльев, кто-то приблизился и заговорил, и тяжело было возвращаться, вспоминать слова, вспоминать имя… имя, связанное только с кознями и обманом. После паузы Оробас пошевелился, опустил тяжелую голову, сделал полшага назад в жесте почтения и приветствия.
Это уже не могло быть ошибкой; четырежды он приходил в пустыню и четырежды за ним следили, на этот раз Асмодей даже не стал скрываться. Показал – вот я. Потребовал ответа, что было неожиданно и весьма неприятно. До этого предположения исходили из того, что чужие глаза принадлежат любому из миллиардов тех, кто для Оробаса был меньше, чем пустым местом.
Он думал. Пытался обдумать все быстро и правильно – то, что он замыслил, для Асмодея хорошо или плохо? То, что он замыслил, для Асмодея явно или скрыто? Важно ли старому королю Ада то, что замыслил его младший непримиримый соперник? Вероятно, важно, если погибнет старейший из них, если (ледяное касание предвкушения, мгновенная дрожь и трепет), если действительно алое переродится в белое и исчезнет навечно? А вечность страшное слово, кому, как не им, это знать. Но важнее и то, что Оробас пришел в Корсону тайно, не желая выдавать себя, не показывая, что он станет требовать себе корону по праву сильного. Важнее было бы знание о свершении замысла, либо о неудаче.
И все-таки ему помешали.
Дьявольский, неестественно гибкий, не по-лошадиному подвижный зверь отступил еще, переставив копыта, обернулся, чтобы, как человек, смотреть на собеседника обоими глазами сразу и с вытянутой морды окончательно ушла отрешенность. Он чуть улыбнулся, моргнул, отводя оживающий взгляд.
– Я размышлял, – губы шевельнулись, исторгая слова из звериной пасти: – Думал о том, почему ты, старейший, позволяешь существовать выродку. Думал о том, не кроется ли здесь обстоятельство, перед которым ты бессилен. Нас пугает то, что не в нашей власти, не правда ли? Оттого мы так тянемся к пугающим предметам и вещам.
такие дела.
Слово «старейший», оброненное Оробасом, как почтительное обращение, полоснуло по самолюбию Асмодея, словно серп жреца Кибелы под корень естественного признака мужественности. Он помнил их, с белеными лицами и алыми губами, пьяно прославляющих свою богиню даже в аду и ищущих её здесь. Было это давно, еще до вестей о человеке, называющем себя сыном Бога, которые из единичных историй превратились в несомненное знание о мире для значительной части прибывающих в Доминион. До того, как кому-то в Сенате пришла идея переименовать Врата, словно им было недостаточно называться согласно выполняемой ими функции, во Врата Святого Петра.
Обращение «старейший» напоминало о том, как долго он заточен в ставшем поистине бесконечным посмертии. Асмодей же прилагал немало усилий, словно увядшая кокетка, старающаяся с помощью притираний, снадобий и пудры скрыть морщины на лице, чтобы казаться таким, словно умер пусть не вчера – земной мир менялся очень быстро, но хотя бы лет двадцать тому назад. Казаться, но не быть – потому что обустраивать свой домен по последнему слову земного прогресса он не спешил, справедливо полагая, что все временное само себя изживет, а вечные ценности останутся неизменны. Можно сменить римскую тогу на камзол и панталоны, а их, в свою очередь на смокинг, но вовсе не обязательно устраивать на улицах Вавилона газовое освещение, как только люди стали рассказывать об этом своем изобретении. И был прав.
И двух поколений не сменилось, на смену газовым фонарям пришли электрические!
Он вообще всегда оказывался прав.
И потому подозревая Оробаса в злокозненных намерениях, ничуть не сомневался, что так оно и есть.
- Дивные пейзажи Корсоны привели тебя в философское настроение? – гулкий голос быка не мог передать иронию вопроса, - Что ж, подумай о том, над чем не властен любой из нас – мы не можем разыскать даже человека, когда знаем не его имя, а лишь прозвание, известное среди людей. Вспомни про Иоанну. Как мы не ждали её, выставив у Врат по десятку соглядатаев, упустили девку. Не властны мы и над любовью человеческой. Неужели хоть кто-то из нас живет в страхе, мучимый мыслями о неспособности внушить к себе такое чувство. Я говорю не о чарах влечения, которые спадут со смертью, а о том, чувстве, которое порой не изживается в сердцах людей веками.
Болтать, то есть рассуждать на самые разные темы, Асмодей мог часами, увлекаясь, жонглируя словами, смыслами, меняя темы и уводя слушателя столь же далеко от изначальной темы, как в своё время богоизбранный народ от угнетения и рабства египетского, а еще от вполне сытой жизни с безнадежной определенностью завтрашнего дня.
Вот и теперь он собирался за беседами о любви увести тонконого коня подальше от забавляющегося нескончаемой трапезой из самого себя Левиафана. Уж лучше они с Оробасом снова начнут делить непойманную папессу, чем падут столь низко, чтобы сплетничать о Левиафане буквально у него под брюхом.
Есть особое удобство в зверином облике, искаженном, совершенно уже непохожем на человеческую оболочку, покинутую и забытую вылупившимся демоном. Оробас, однако, обжил свое новое тело настолько хорошо, что не ощущал разницы, не чувствовал ущербности и потери, к примеру, рук, но сложившаяся воедино мимика человека и животного его неизменно выдавала. Жесты выдавали, за ними нужно было следить, скрывать и, когда Асмодей не ответил на прямо заданный вопрос, он передернул шкурой, будто лошадь, сгоняющая муху. Муха действительно была: ползала по серебристому плечу, взлетела, пересела на лишенную гривы тонкую шею.
В воздухе, напоенном ядом, появился еще один отчетливый запах – запах тайны, которой собеседник, дразня, поманил и закрылся.
– Иоанна отыщется, отыщется… – он отошел, с досадой отворотив морду, принялся шагать по воздуху, спускаться вниз, через несколько шагов встал: – Недосягаемая любовь вызывает ужас, все так. Она напоминает таким, как мы, о том, что мы отбросили, чего лишились на длинной дороге от этого места к тому, что над нашими головами. И, глядя на это, мне приходят в голову мысли о… милосердии?
Он особо выделил это слово. Он не о милосердии. Он о причине, почему был потревожен и почему Асмодей явился перед ним, почему без слов и без повеления запретил, а в том, что это был запрет, неявный, но и недвусмысленный, Оробас не сомневался. И желал знать причину. Не желал, чтобы его дразнили еще.
такие дела.
Крылатый бык, отметив, как дернулась белая шкура коня, только качнул головой, вполне довольный, что ему удалось в очередной раз подсунуть жеребцу колючку. Сказал бы, что под седло, если бы хоть на миг мог представить Оробаса взнузданным и оседланным.
- Отыщется, - согласился он, - особенно если перед твоими Папами, что прежде своего понтификата, были кардиналами при Иоанне VIII, провести всех, почивших в тот год. Бороды наш исчезнувший папа римский не носил, а я готов поставить всех вавилонских девственниц против пары сифилитичных шлюх из Гоморры, что Ионна точно не на скотобойне. Но если она уже среди демонов, то… в ней мало осталось того, что мы так вожделеем.
Он произнес последнее слово так, словно обсуждаемая женщина и в самом деле интересовала его как объект удовлетворения похоти.
Собственная идея Асмодею так понравилась, что он даже не устоял на месте, прошел вперед, сократив расстояние между собой и Оробасом, словно хотел что-то шепнуть конь в острое, словно вырезанное из кости ухо. Среди Римских Пап, заточенных в Вавилоне, современников Иоанны не было и тут, как бы ни была хороша мысль, без помощи Оробаса ее не воплотить. Посему не стоило сейчас злить демона. Куда интереснее будет искушать женщину вдвоем, испытывая её волю, подкупая дарами и возможностями, чем просто соблазнить обещаниями достатка, почестей и должности в своей свите.
- И в чем же ты видишь милосердие? – Спросил бык, выворачивая шею, чтобы взглянуть наверх. -По-моему, он нуждается в нем так же мало, как Доминион еще в одном миллионе грешников. Гармония постоянства в вечном изменении через смерти и возрождения – что это, если не какая-то форма счастья? Возможно, для нас с тобой просто непостижимая. Милосердие окончательной смерти здесь недоступно никому.
Такую избитую истину можно было бы и не озвучивать. Но Асмодею хотелось понять, что задумал Оробас, говоря о милосердии.
Тень все же проскользнула по морде демона в обличье коня, когда Асмодей, будто специально потянув время, рассуждал о поимке беглой папессы так, как будто и не замечал его волнения. Или не заметил? Или ему все равно? Чувствуя, что сейчас непременно выдаст себя, Оробас снова принялся шагать, с преувеличенной осторожностью ставя копыта на незримую твердь.
– Может быть, я уже это сделал? – он покосился одним глазом и иронично приподнял уголок рта, не собираясь продолжать – поддразнил в отместку.
И он спускался ниже, качая тяжелой головой, спускался, пока в дымке не осталась видна только белесая полоска спины. Сверху лязгало, похрустывало; наконец, гипнотически медленно проплыл хвост, широко разведенные плавники на конце его, оставляя завихрения в тумане, дуновение смрада, отчетливое и давящее. Стало прохладней – все это время они стояли в тени от жара тела чудовищного существа.
Оробас так же медленно отдалялся – ему всегда лучше думалось на ходу, к чему успели привыкнуть многие его собеседники; наконец, внизу разнесся полый и звонкий удар – копыта встали на камень.
– Окончательная смерть, – отчетливо раздалось снизу, и только это.
такие дела.
«А что, если», равно как и «Допустим» было одной из любимых игр Асмодея. И играть в неё он начал задолго до появления среди знати Доминиона демона Оробаса. Будь он в человеческом облике, мимолетную эмоцию едва ли бы сумел скрыть. Но бычья морда оставалась, как и прежде спокойной.
- Сделал и не потешил тщеславие, похваставшись старому другу? – он постарался, чтобы в голосе звучали и укор, и обида, словно он и в самом деле допустил мысль о том, что Оробас отыскал Иоанну.
К неудовольствию Асмодея, конь Оробас развивать тему Иоанны не стал. Его вообще сложно было сбить с мысли или отвлечь от идеи, если та приходила вдруг в его светлую голову. Но и Асмодей был упрям.
Когда Оробас двинулся в сторону, стремясь увеличить расстояние между ними, Асмодей позволил ему сделать несколько шагов, просто наблюдая за тем, как белый конь тает в клубах тумана.
- Из того, что ты иногда говоришь, - фыркающий смешок слетел с толстых бычьих губ, - я могу сделать вывод, что ты не веришь в Бога. Всегда или только по четным дням и в воскресенье? Но я когда-то знал, что Он есть. Как и жизнь вечная для души. И нам всем здесь отказано в том милосердии, о котором ты говоришь. К тому же подобные беседы лучше вести в саду, в тени платанов, за чашей вина, а не здесь… Давно ты был в моем дворце, в Вавилоне?
Это прозвучало, почти как приглашение. Асмодей слишком бы оскорбился отказом, но, поскольку считать, что Оробас радостно поскачет к нему в гости, не приходилось, предпочел ограничиться намеком. Но он бы предпочел, чтобы этот конь вытоптал все газоны во дворцовом парке, чем остовался здесь да еще с мыслями ор поиске возможности Окончательной смерти здесь, в Доминионе, где даже мухи и те, будучи убитыми, где-то возрождаются снова.
- И для кого ты желаешь такого милосердия? Не для себя же!
– Не верю, – прошелестел голос демона, рассыпался о скалы внизу.
Он исчез и проявился совсем близко, встал рядом, вскинув голову, уставясь поперечным зрачком в бычью морду – ничего не выражающий взгляд. Определенно, этот разговор лучше было бы вести под платанами и за чашей вина. Там, где Асмодей не укроется за звериным обликом, непостижимым, неприступным как древняя стена. Что можно считать на морде керуба, чьи черты позаимствованы не столько от живого создания, сколько от старинных изображений? Как проявится разум, скрывшийся внутри, чем выдаст свои истинные чувства? Ни намеком, ни вздохом. И все же он смотрел, и суетливая муха бежала по голове дьявольского коня, описывала круги, цепляясь лапками за шкуру.
– Смерть есть, – наконец, отчетливо и веско произнес Оробас. – Мироустройство логично от первого до последнего Слова, и окончательная смерть – элемент, который должен быть в нем, но я не покушаюсь на твои тайны, старейший. Я лишь желаю знать, почему ты не применил ее к этим жалким останкам? Какова причина не стереть его, бесполезного, из памяти? Я рад твоему приглашению и приду в Вавилон, как только позовешь, но мы стоим здесь, и я здесь потому потому что хочу попробовать. Хочу взглянуть на истинную смерть, и я не знаю существа, которое бы больше нуждалось в ней.
Откровенность на откровенность – глаз задержался еще ненадолго и он уставился вверх, снова шагнул прочь, манерно качнув головой.
такие дела.
Бык в раздражении приподнял тяжелые крылья, с неестественно рельефным, будто бы созданным резцом мастера, оперением, словно намеревался взлететь, но раздумал, прежде, чем сделал шаг для короткого разбега.
- Пустая затея, - как можно более равнодушно произнес он, - небытие сознает себя через сущее, и мы, каждая тварь в Доминионе – частица этого осознания.
Асмодей утверждал это так, словно говорил о какой-то очевидной истине, но когда это истина в его устах не была лишь инструментом манипуляции? А уж софистические сентенции, вроде только что произнесенной – тем более.
- Так я и приглашаю, - решился он, - сейчас. Вавилон – не Гаапа, но думаю, если кинуть клич и призвать ко двору существо, более всего желающее окончательной смерти – к исходу дня у ворот дворца соберется толпа. Выберешь несчастного – и пробуй даровать ему свое милосердие.
Он не добавил ехидное: «все равно не получится». Но это подразумевалось.
- Так что, Оробас. Идем? Эдемские вина, ватиканские сатрцы, невинные девы, из тех, кто не умер здесь еще ни разу. Они, конечно, прелесть, какие дурочки, но все же… забавны в своей человеческой дикости. Или ты уже совсем разучился развлекаться?
Он сделал шаг к Оробасу, внимательно следя за ним, словно хищник за настороженной добычей, готовой в любой миг сорваться в стремительный галоп по пустыне. Побег Оробаса из Корсоны его совершенно устраивал.
– Значит, причины нет.
Причина есть, теперь уже точно. Он улыбнулся – едва-едва. Древнейший из них – только червь, кружащий над бездной и пожирающий сам себя, лишившийся рассудка, лишившийся всего. Страшная участь. Страшная, каждому, пожалуй, напоминающая о том, что каждого из них ожидает в конце пути. Но зачем, зачем это может быть нужно Асмодею? Неопределенность сводила с ума, злила.
И он думал, что одного его присутствия достаточно, чтобы запретить что-либо делать. А если нет, тогда что? Нервные ноздри коня раздулись, он переступил, отодвигаясь, потом переступил еще,
на одну ступень вглубь.
И все становится хрупким.
Когда ребенок протягивает руку с карандашом, виноградные лозы бросают изрезанный свет. И он придерживает лист тяжелой серой бумаги. Он рисует круг – неумелый, неровный. Летнее марево полудня колышется в тревоге, расступается от ледяного ветра.
И все становится хрупким.
Он склоняется ниже, и тени листвы накрывают макушку, свет играет в волосах – сопя от усердия, ребенок выводит квадрат, и три креста внутри. Хочется поправить карандаш в руке, поставить маленькие пальцы так, чтобы ему стало удобно. Но звенит далекий хрустальный колокольчик, уже поздно. Свет меркнет.
И все становится хрупким.
Свет меркнет так быстро. Затменный полумесяц соединяется с квадратом – рисунок делается странным, нелепым, неправильным, некрасивым. Виноград шумит. Изо рта выходит пар; отвлекаясь, он выдыхает, смотрит и смеется – как если бы он дышал огнем, как дракон. Балуясь, он украшает квадрат кружками и треугольниками. Звон падает в грохот.
Остановись, потому что все становится хрупким.
Ледяной ветер срывает виноградные листья – ставшие хрупкими, они ломаются и улетают. Лозы, ставшие хрупкими, ломаются и улетают. Лозы? Ну конечно! Болтая ногами, он дорисовывает усики-завитки. И карандаш переламывается в пальцах, став хрупким. Улетает. Бумага рассыпается и улетает, став хрупкой, но рисунок остается на месте. Он глядит на него и отступает на шаг,
на одну ступень вглубь.
Невидимый океан поднимается, и он отступает на шаг,
на одну ступень вглубь.
Здесь видны реки эфира, и разметка восьмидесяти восьми сторон света – он видит ее кругом себя, и от каждой стороны берет по букве, зажигая восемьдесят восемь сияющих сфер.
Сорок четыре обращены наружу.
Сорок четыре смотрят внутрь.
Кобальтовые глаза, темные, синие, фиолетовые, такие темные, что это сама вселенная глядит, как лик Мадонны, в котором какой-то мастеровой с кистью случайно воплотил то страшное, то непостижимое, что увидел во сне – следящие глаза, неотрывные глаза, глаза, выстраивающеся рядами, они смотрят так сильно, что он проваливается,
на одну ступень вглубь.
Здесь алый Левиафан, пронизанный искрами, расчерченный разметкой и заклятьями истинной речи, поднимается из океана, и водопады изливаются из его жабр, океан вскипает, ничтожный перед чудовищной волей.
Сорок четыре сферы проворачиваются снаружи вовнутрь, увлеченные движением.
Левиафан замыкается в кольцо, и кольцо с сигилем теплеет на пальцах. Поднеся его к губам, он делает шаг назад,
на одну ступень вглубь.
И в истинном мире он поднимает голову, внимая знакам, что горят тускло в пустоте, видны и ждут его воли. Он находит под своими копытами слово «где» и переписывает несколько символов после. Расстояние теряет значение. Нет никакого «где».
В истинном мире истинный Левиафан рассекает пространство непомерно огромной головой, но нет никакого «где», и он все не может настигнуть дерзкого мага, пришедшего со своим Словом.
В истинном мире он застывает на мгновения, чтобы разум мог уместить чудовищный текст, движущийся, бегущий, не поддающийся, что поднимается, увенчанный вихрями ветра, что раскрывает плавники и пасть, в которой каждый зуб как шпиль собора… Запомнить, но… неважно. С ним что-то не то… неважно.
Рядами загораются, призванные и покорные, восемьдесят восемь сфер. В каждой – только буква. Их свет меркнет, выворачивается, становится неправильным. Свет меркнет и делается ветром, который дует внутрь. Свет становится черным.
Он переписывает несколько символов после слова «где».
Башка Левиафана словно проваливается внутрь себя, кровь, брызги, жирные парящие мозги проваливаются внутрь, дуги жабр, ошметки шкуры проваливаются, проваливаются, проваливаются – он видит, как знаки истинной речи поглощает этот неправильный черный свет, но ему все равно.
Он стоит посреди увитой виноградом беседки и глядит на свою руку с кольцом, на котором выдавлен нелепый рисунок. Он даже не вспоминает слово, которым зовется этот металл. Ему все равно. После пяти шагов внутрь разум утрачивает способность торжествовать, злиться, надеяться. Ему настолько все равно, что он не обращает внимания на то, как рябь проходит по огромной туше Левиафана, все погружающейся и погружающейся в неправильный, черный свет. Не видит необычного и странного – как красная чешуя встает дыбом и ложится в обратную сторону, из восьмидесяти восьми сфер ни одна не обращена наружу.
Спустя один вздох огромная красная башка, возникшая на месте хвоста чудовища, взлетает из тумана, смыкая челюсти там, где стоял над пустотой белый конь.
Спустя десяток секунд свет гаснет, остаются только огни глаз Левиафана, медленно возобновляющего свое движение.
Спустя несколько минут Асмодей остается над пустотой один.
такие дела.
Сколько легенд ходило по Доминиону об ужасном в своем безумии Левиафане? Сколько демонов хвалились тем, что были сожраны им, и потому могут опровергнуть одну из них – что смерть во чреве Левиафана становится последней?
И если люди были сочтены поголовно, то никто не вел учета хвастунам, лжецам и воинам, ищущим соперников себе под стать. Асмодей не видел прежде, как это происходит – слишком редко кто-то приходил в Корсону, а те, о ком докладывали бесы не представляли интереса, чтобы являться сюда ради минутной беседы и секундного зрелища.
Но не Оробас.
Демон этот был пренеприятнейшим исключением – деятельный, молодой, хитрый и осторожный, он стал последним, кто получил место в Сенате и Асмодей опасался, что этим его амбиции не удовлетворятся. Зачем быть одним из тринадцати, когда можно стать единоличным правителем Доминиона? Не для того ли Оробас ищет теперь возможности принести в Доминион Смерть окончательную, чтобы избавить себя от соперников?
Вопросов было много. Но ни одного из них Асмодей не мог задать, не выдав тем самым своих опасений Оробасу, а потому мог только ждать и наблюдать, сохраняя бдительность. И он смотрел. Внимательно смотрел за тем, как меняется одно из слов, в длинном заклинании, закольцованном в бесконечном самоуничтожении и самовоссоздании
Когда-то он сам начертал их и поныне помнил каждый символ.
Потому что забывать такое опасно.
И лишь по тому, что изменилось слово, одно из сотен, составляющих заклинание, Асмодей понял, что Оробас прибег к магии, и облегченно выдохнул, понимая, что демон, ныне пребывающий в конском обличии, не задумался даже о том, чтобы прочесть всё сокрытое чарами, что было начертано вдоль огромного змеиного тела Левиафана.
Ход мыслей Оробаса был верен, но решение в нынешнем моменте не даст ему ничего. Кроме смерти. Кто в Аду остановит другого от верной гибели?
Бык вскинул голову, следя за стремительным полетом коня Оробаса, за тем, как распалась, смятая искажением чар голова Левиафана и, как конец стал началом, а огромная пасть поглотила белого тонконого коня.
Когда теперь Оробас вернется сюда? Помчится, едва выйдет из купели или посвятит несколько лет раздумьям? Асмодей устремился вверх, к полыхающему багрянцем чешуйчатому боку Левиафана.
Видимо, пришло время напомнить заскучавшим жителям Ада, насколько опасно тревожить величайшего из демонов, отвлекая от его безумных грез. И хорошо бы, если бы Оробас поспешил в Корсону сразу ,едва возродится – вина его будет очевидна, пусть не всем, но ему самому.
С мыслями об этом Асмодей поднялся выше, вдоль тела Левиафана, покрытого чешуей, столь крупной, что каждая чешуйка могла бы стать щитом для воина. Добравшись до спины чудовища, крылатый бык, осторожно скользнул меж шипами алого гребня, и за миг до того, как опустился на спину Левиафана, с него будто бы сдуло потоком воздуха и перья крыл, и бычью шкуру, оставив лишь то малое, что было истинным. Асмодей встал на ноги, уже в обычном своем облике, сочетавшем мускулистое тело с бычьей головой и ощутил, как чутко дрогнуло под ногами тело демона. Присев, он коснулся ладонью его спины, пропуская силу через печать, обозначая для Левиафана себя, того единственного, кому тот был открыт со всеми потрохами. Дрожь прекратилась. Асмодей побежал по хребту чудовищного змея, двигаясь вдоль гребня и высматривая среди слов, начертанных воздухом и пламенем обозначения, куда полагалось приложить руку с печатью. Их было 108 таких мест вдоль всего тела. Но для того, чтобы укротить Левиафана, достаточно было наложить 12 печатей. И ни одну не мог наложить кто-то другой.
Асмодей пожалел, что не может точно так же открыть сокровищницу Доминиона, которую все давно называют сокровищницей Эми, забыв, что тот – всего лишь хранитель, но не владелец. И после этой мысли, пришла другая: уж лучше бы Оробас ломился туда, ища ответы в Книге Судеб.
Когда же была наложена двенадцатая печать, Левиафан замер, оставаясь в воздухе, и Асмодей, создав себе крылья, направился к ближайшему люку, ведущему внутрь этой конструкции.
Путь через пасть был априори смертелен.
***
Вечером он отправил беса с запиской Оробасу, в которой в самых изысканных выражениях повторял сделанное ранее приглашение – отказываться от своих слов он и не собирался.
Зато намеревался вести беседу так, чтобы Оробас как можно скорее вновь отправился в Корсону.
Что ему, неуёмному, еще одна смерть в пасти левиафана? Вдруг испытал новые, неизведанные прежде ощущения и ему понравилось?
Медлительный ручеек скользит по желобу возле черной мраморной ступни. Нога, ноги, бедра, грудь, плечи… руки стискивают нижнюю челюсть, раскрытое в немом вопле зубастое крокодилье рыло, каким-то безумцем приставленное к женскому телу. С другой стороны, свернувшись кольцом, черный крокодил с лицом женщины глядит на себя в парящую воду. Последняя работа мастера прежде, чем нечто черное захлестнуло его с головой; как будто некоторая ценность, или память, или памятник.
Рыжий электрический свет лежит на стенах, падает в воду, отражается от воды, пляшет. Вода переполняет бассейн, перехлестывает через край и уходит в решетку. С другой стороны решетки сидит на полу крупный мохнатый бес с лицом кота, весь покрытый черной шерстью, обнявший колени могучими руками; ему тепло на плитах. Бездеятельность, ленность, неподвижность – то противоестественное, что пугает высших, ему обычна, он привык ждать. Иногда ему кажется, что ждать – это единственное, что ему доводилось делать. Он слушает, как течет вода.
Долго.
Он слушает, как содрогается замок. Чувствительные кошачьи усы пробуют воздух – воздух трепещет, и что-то за ним, о чем бес не имеет ни малейшего представления, содрогается, мнется, меняется – он не знает, что, но чувствует своим ущербным естеством. И вода плещет на плиты по-новому.
Поднявшись на ноги, он заглянул – на дне вскипала чернота, бурлила, заполнив весь бассейн, сделав его бездонным. Бассейна того – в ширину три шага, и бес, склонившись над краем, без труда достает до середины протянутой рукой. Вода шипит, жжет, впивается в ненавистную ей плоть, но он уже достал за горло конскую башку, удержал над поверхностью, пока из ноздрей выливалось, пока чудовище, собираясь из этой черной воды, колотилось в руках, скаля ядовитую пасть. Наконец, за обваренную руку в мокрой шерсти ухватилась человеческая ладонь и принц Ада переступил через бортик, вернувшись к жизни. В который раз уже.
– Блядь… – вырвалось у Оробаса, как только он снова сумел видеть, и говорить; согнувшись, он попытался проблеваться, но вышло только немного жижи. В глотке до сих пор стоял привкус кислоты из желудка проглотившей его твари, едкой дряни, сжигающей легкие, глаза, особенно глаза. Неприятная смерть.
Он уселся на теплые плиты пола, на полу было хорошо. Хорхе притащил покрывало – ему казалось, что так приличней, Оробас не стал спорить, сидел себе в покрывале, привыкал. В покрывале тоже было хорошо. Где угодно было хорошо после того, как тебя сожрали целиком и слегка попереваривали.
Он пригрелся и не заметил, как отступил на три шага, но, когда в глаза плеснуло непрошенное истинное зрение, скривился и вернулся. Поболтал левой рукой, словно потеплевшая дьявольская печать под кожей как-то была виновата. Посмотрел на верного беса, что куда-то ходил, а теперь уселся рядом и ждал, не задавая ни единого вопроса.
– Налей ванну.
В ванне с душными травами, с резким апельсиновым маслом стало бы совсем хорошо, но там уже начинались владения Хорхе, ему и часы не нужны были, чтобы отмерить нужное время и из теплого омута с благовониями и цветами отправить своего хозяина на стол. Это где-то наверху Оробас чему-то там был хозяин, а на столе под безжалостными жесткими лапами он только поскуливал.
– Проверяешь, правильно ли я себя собрал? – наконец, пошутил он, и в ответ плеснули золотым кошачьи глаза беса, как обычно, серьезные:
– Если будет что-то не то, я вам скажу.
Не понимает шуток. Ну и бес с ним. Постепенно к Оробасу возвращалось хорошее настроение, и на языке уже вертелась очередная острота, которая была для сумрачного Хорхе не более чем очередным заумным чудачеством, но он промолчал. Молча ел противную пророщенную кашу, и не то, чтобы она ему была нужна, просто привык. Что-то постигается наукой, а что-то такие вот люди как Хорхе знают от природы, чуют, как надо, конструируют дикарские ритуалы, и они работают. Люди...
– Секретарь пришел, – голос, нутряной и гулкий, нелюдской.
– Угу, – буркнул Оробас, недовольно посмотрел по сторонам, потом отставил пустую тарелку, поднялся.
По мрамору ударили копыта; дверь услужливо распахнули невидимые слуги и, перед тем, как начать подниматься по лестнице, Оробас резко взмахнул непросохшим хвостом, карикатурное лицо, рожа под конским хвостом глянула на опешившего Хорхе и вытянула толстые губы трубочкой, потом подмигнула.
Секретарь был не один; один он и не ходит, сбежалась вся свита. Дворцовых распорядителей три штуки, церемонимейстер, капитан жандармерии Дортон Вайс (спасибо, без ездового волка по коврам), казначей, какой-то помощник казначея, министров три штуки (как будто им заняться больше нечем), через поворот добавилась парочка кардиналов.
– Лорд, отчет о разрушениях приготовили…
Зная повадки своего господина, казначей просто бежал следом на своих поросячьих ножках, развернув перед собой типографский красивый бланк как гладиаторский щит. Секретарь, зачитывавший самые неотложные пункты дел, недовольно косился и посматривал через холку Оробаса на нахала. Оробас тем временем монотонно отметал одно неотложное дело за другим:
– Нахрен, в министерства. Туда же, нахрен. Медичи просят пересмотреть налог? Отказать. И Эми напиши, что я отказал, пусть тоже им не спускает… да, прямо Эми, не его шестеркам, а самому. Это что за чушь, реконструкция? Ну сам и решай. Снабжением гвардии пусть Вайс занимается, кстати, вот он… ты, давай отчет, утверждаю.
Он неожиданно остановился и вся свита едва не попадала друг на друга. Казначей с поклоном положил отчет на ковер и Оробас ткнул в бланк копытом, оставив тлеющий отпечаток печати. Разумеется, он все это время читал и практически не слушал щебет секретаря.
– Компенсации выплатить, особенно общинам доминиканцев в долинах Ул.
– Да, лорд.
Он прислушался – судя по тону, секретарь иссякал с новостями.
– …И записка от лорда Асмодея.
Ага, записка. От лорда Асмодея.
Невидимые слуги вырвали записку из секретарской папки, тот даже потянулся ловить, но вовремя понял, в чем дело, отдернул когтистую руку. Оробас прочел, едва покосившись – в своем привычном теле он видел все вокруг себя практически кругом. Сжег дыханием бумагу, услужливо поднесенную к губам.
– Надоели, – капризно подытожил, наблюдая, как изменилось выражение лица капитана, и парочка остальных. – Я в Вавилон.
Оробас как раз вышел к повороту на огромную террасу, отделяющую нижнюю ступень его дворца от взлетающих вверх причудливых башен и корпусов, проскочил под опущенными ветвями глициний в приглушенный сумеречный свет и был таков.
Он полагал себя сносным правителем и иногда сутками сидел над всеми этими прошениями и законами, которые ему таскали во дворец, но через час после возвращения к жизни перспектива заниматься настоящей работой не прельщала. Продышавшись, он в несколько шагов по пустоте заставил мир подернуться пеленой символов, отыскал нужные, переписал. Ад далеко внизу провернулся, словно колесо. Еще переписал – чтобы под копытами была земля, песок, камень. Наступил, пошел. Ему нравилось шагать, странным естеством его искаженного тела нравилось, и каждый шаг загонял обратно в землю столбцы и вязи знаков – от совершенного, от чистого и истинного к реальному, осязаемому, обычному, где по шее ползают мухи-близнецы, и под глазом сидит мушиный бес, готовый услужить, и длинным хвостом можно вдоволь, до свиста, помахать направо и налево, чтобы просох, наконец. Неприличная для демона радость бытия, но нужно познать сухую математику истины, чтобы суметь порадоваться простой жизни. Шагам по мостовой. Пестрым прохожим, уступающим дорогу. Сверху грохнуло и грянул ливень. Мухи пропали все до одной – кинулись ловить капли. К пирамиде Асмодея Оробас явился сухим.
такие дела.
Встретившие Оробаса демоны выказали ему почтение в той мере, в какой требовало положение владыки Оморры и дозволяла служба гвардейцев и обязанности слуг.
Врата перед белым конем отворились мгновенно, словно тот входил во дворец Асмодея каждый день, слуги из числа бесов кланялись до земли, были они невелики ростом, все, как один крылаты, но телом и мордами отличались, были тут и свиноголовые собаки хундешвайне, и милые с виду лисоподобные твари с пушистыми хвостами, одна более похожа на кошку, вторая – лиса лисой, только задняя часть тела была пятнистой, а хвост тонким и чешуйчатым, зато с рыжей пушистой кисточкой на конце. Бесполезные в обслуживании покоев, бесы эти служили сопровождающими для посетителей и соглядатаями для придворных. Однако же весть о визите Оробаса на крыльях синих и зеленых попугаев разлеталась по дворцу и менее, чем через пять минут, достигла ушей повелителя Вавилона, в тот самый момент находившегося в покоях, отведенных первому архитектору Вавилона для работы. В левой руке он держал кирпич темно-серого, едва ли не черного цвета. В правой – тоже кирпич, цвета древесного пепла. Незримые для человеческого глаза письмена покрывали каждый из них. И на каждом было начертано на всех языках мира, имевших письменность, слово «начало».
Давний друг его, Имхотеп, помощник и советник стоял подле окна, устремив задумчивый взор на город, раскинувшийся до горизонта, За высокими домами и зиккуратами вавилонской знати не видно было садов и селений, расположенных дальше, а потому казалось, что город тянется едва ли не до самой стены, которая отсюда казалась лишь темной лентой где-то там, неизмеримо далеко.
Словно почувствовав, что владыка принял решение, он обернулся. Смуглое лицо Имхотепа, как обычно, было спокойно-равнодушным, лишь полные, чувственные губы , казалось, чуть кривились в затаённой усмешке.
- Этот, - Асмодей положил светлый кирпич на невысокий столик .
Имхотеп едва заметно кивнул. Ему предстояла большая работа – обучить сотни мастеров тому, как приготовлять именно такой состав из праха, замешанного на черной воде из Немуса, чтобы они в свою очередь научили этому начальников цехов, а те – сотни тысяч рабочих, которым предстоит подготовить материал для постройки следующей башни, когда нынешняя, вершина которой была уже выше линии солнца, бесславно падет, как тысячи её предшественниц.
Влетевший в распахнутую дверь попугай, проорал заполошно, что во дворце гость – его высочество принц Оробас.
- Проводите его в cад, к беседке под платанами. А это – жри! – Асмодей, коротко размахнувшись, швырнул черный брусок из праха и копоти от сожжённых тел, замешанных на водах Флегетона, в птицу.
Голова попугая в миг трансформировалась, клюв вытянулся в зубастую пасть, не то пеликанью, не то крокодилью, раскрылся, ловя кирпич. И бес, подкинув угощение в воздух, клацнул челюстями, поймав во второй раз, прежде чем проглотить.
- Бывало и лучше, - заметил он, мотнув головой, словно вкус «начала» ему не понравился, - на костной муке и бычьей крови.
- Моей крови не хватит и за тысячу лет, - вздохнул Асмодей, а то, что течет в жилах прочих не всегда подходит.
- Но то, что замешано на ней, не разрушается, -заметил Имхотеп. - Мне нужно присутствовать при вашей беседе с сенатором Оробасом?
- Нет, если только не хочешь подслушать.
Гостя Асмодей встретил на широкой садовой дорожке, один, без суетливой бесовской свиты и без преисполненных важности своего положения демонов.
- Здравствуй, - проговорил он с радушной улыбкой и вид при этом имел такой, словно видит близкого друга, - Ты всё же пришел. Велеть, чтобы тебе подали одежду или останешься в этом облике?
Сам он предпочитал человеческий и всякий раз, видя свое отражение в зеркалах, испытывал тщеславное удовольствие от того, что является собой, не таким, каким умер – его жизнь на Земле была долго, но таким, каким был в пору своего физического расцвета.
- Поведаешь мне, что испытал, сблизившись с Левиафаном, или проведем вечер за беседами о духовном и смысле бытия, ограниченного Стеной? Прочти за прямой вопрос, - он, казалось и в самом деле испытывал неловкость, - но ты же знаешь, беседа для удовольствия и удовольствие от беседы складываются из разного.
…Разумеется, ни в какой беседке он его не ждал. Ходил кругами под деревьями, все шагал и шагал, качая лошадиной головой – так удобнее думалось. Резные тени скользили по шкуре, шелковой даже на вид, текучий свет переливался на серебристой шерсти, подумать было о чем, но единственное, что занимало Оробаса, это как вытянуть из старого дьявола, хозяина Вавилона, ответ на единственный интересующий его вопрос. Казалось, в тот момент все сущее и все обетованное сузилось до этого вопроса.
Чему служит алая тварь в Корсоне? Почему он не уничтожил это?
Но они хорошо стерегут свои тайны.
И было мрачное, хищное желание, растерзать и развеять это существо самому, попробовать еще, и еще, и еще, пока не получится, пока не перестанет кипеть черная вода у подножия скал и оно не переродится. Пока не перестанет существовать вместо со своей проклятой неподатливой тайной, и это будет хорошо.
Оробас задержал в воздухе поднятое копыто, потом поставил его назад, опустил шею – это выглядит куда красивей, чем неловкие человечьи раскланивания. Никогда не понимал, зачем они так держатся за свои личины. Всем же известно, что фальшивые. Но он улыбнулся одними губами:
– Мне достаточно будет фигового листка.
Невидимые слуги ринулись выполнять и тут же принесли лист с дерева – демон глянул и лист сделался полукруглым, и белым с золотыми прожилками, сделался красноватым по краю, с вышивкой, повторяющей десятки, сотни листьев. С некоторым сожалением расставшись с привычным ему обликом, Оробас шагнул на выложенную камнем дорожку, позволил невидимым слугам обернуть вокруг себя тогу – они постарались, накрутили складок на поздний манер. Как будто это чем-то лучше сверкающей шкуры. И он снова улыбнулся, словно пробуя, как это, словно вспоминал. Глаза оставались прежними – желтыми и холодными.
– Не будем о том, что я испытал, – он покачал головой, словно досадуя на собственную оплошность: – Не рискну повторить. И все же я бы хотел вернуться к беседе, что завершилась столь… драматично.
И он, как будто вспомнил все, что нужно для того, чтобы с наивной непосредственностью посмотреть на Асмодея, с упрямством и простотой ребенка, желающего игрушку (помнит ли Асмодей, что такое ребенок?), спросить:
– Так зачем он нужен?
такие дела.
К метаморфозам Оробаса Асмодей остался равнодушен. Плоть, сколь бы красива она ни была, давно не интересовала его, тем более плоть существ, которые могли менять свой облик по настроению.
Асмодея влекло другое – сила, ум, яркость чужих чувств и эмоций, от которых в его душе остался лишь давно остывший пепел. Стремление Оробаса к гибельной тайне Левиафана привлекало лишь возможностью увидеть, какие чувства испытает этот демон, если его подразнить, если поторговаться с ним и, в конце концов… обмануть.
Он взглянул в желтые глаза гостя и жестом обозначил направление к беседке.
- Куда ты так спешишь, словно жизнь твоя конечна. У нас все время мира, - мягко сказал он, - а ты столь редкий гость в моем дворце, что с моей стороны было бы неучтиво не предложить тебе разделить со мной стол и вино. Или я столь ненавистен тебе, Оробас, что лишь ради одного только знания, ты готов был войти в этот сад?
На лицо Асмодея легла тень печали, и он глубоко вздохнул, пробуя на вкус эту наигранную грусть.
Было ли ему все равно?
Нет.
Было ли ему не все равно?
Тоже нет.
- Но ты пришел в день и час, когда ищущие знания, обретают ответы.
Он сделал несколько медленных шагов в сторону беседки.
- И я сажу тебе: для красоты. Разве Левиафан, великий Змей, мечущийся в облаках над пустыней Корсоны не прекрасен? Для противовеса. Сила его такова, что лишь объединившись, двенадцать других могут… хотя бы сравняться с ним. И для гармонии. Корсона пустынна, поскольку другие домены избыточно полны. Что еще ты желаешь знать? И что предложишь взамен за это знание?
Последний вопрос Асмодея интересовал более всего. Если полет в Корсону для Оробаса прихоть нынешнего дня, то едва ли он предложит кого-то стоящего. Знать того, чего не ведомо было Асмодею о тайнах прошлого, Оробас не мог. Секреты других владык – разве что Лерайе мог довериться этому буйному коню. Но у тайн Лерайе мерзкий привкус цикуты. Секреты владык Зимимайи – вещь заманчивая. Но их вызнавать стоило через подкуп инженеров и управленцев крупными заводами. Да и зачем? Налаживать в Вавилоне производство автомобилей Асмодей не собирался. Для официальных выездов ему хватало даже не слонов, паланкина и тысячи слуг и стражников, составляющих яркую процессию. А для обычных прогулок, он, как и Оробас сегодня, обходился своими крыльями.
– Я нетерпелив? Прости, – Оробас улыбнулся чуть виновато, и так же холодно, как раньше – он всегда забывает про выражение глаз, теперь уже всегда. И его извинение прозвучало так, что любому ясно – вовсе он ни перед кем не извиняется, просто следует ритуалам, приличиям, этикету, игре, в которую они играют. Несколько шагов босыми ступнями по дорожке вслед за хозяином его поразили куда больше, чем ответ Асмодея, известного отца лжи, и мать лжи, и прадеда лжи колена так до десятого. Вслушиваясь в свои ощущения, осязая нагретый солнцем камень, Оробас вдруг проговорил, странно и невпопад, пойманный чарующим порывом искренности:
– Но тебе же известно, как время стало другим, когда все целиком досталось нам. Я столько потерял, больше не помню столько слов, только читаю о них в книгах, и слышу иногда. Во мне столько всего недостает, что теперь даже мимолетное любопытство кажется божественной искрой, и да, я спешу за ним… спешу, – он повторил зачем-то, поднял взгляд в спину, погружаясь в тень под навесом: – Напрасно? Тебе тысячелетия, скажи, все напрасно?
Усмехнувшись своим странным мыслям, он развел руками и вслед за Асмодеем сел, потянулся за вином и пил как воду, словно пытался смыть странный привкус, вытравить. Смотрел, зная, что ответы можно не только услышать, но и увидеть, но не знал, хочет ли он ответа на такой вопрос. Странная горечь.
И старый дьявол сам спешит. Ну кто ж спрашивает цену в самом начале торга? Кто вообще спрашивает цену? Ей следует родиться постепенно, как луна выступает из дымки. Оробасу стало весело. Подняв голову, он пододвинул поближе тарелку с оливками и, жуя, начал увлеченно рассказывать:
– Был на Земле маленький городок, я запамятовал название, но действительно маленький… Летом на улицах лежала белая пыль и колоски ежи прятались в сумраке между мостовой и стеной дома, где жила одна девочка. Она любила смотреть на облака и мечтать, облака были похожи на башни и замки, а мечты ее были как легкие бабочки – порхали от одного места к другому. Когда ей исполнилось двенадцать лет, она повстречала одного монаха из Фульды, и вместе они отправились прочь, к облакам и замкам: их обоих соблазнили мечты, легкие как бабочки. Он покинул свое аббатство, она – дом, ветхий и пыльный, они нашли для нее мужское платье и отправились куда-то в Грецию, быть может, в Афины, а может, и на Афон…
Оробас покосился, чтобы невидимые слуги налили другого вина, попробовал, вслушиваясь в сложный терпкий вкус, поднял взгляд:
– О, вспомнил. Майнц назывался тот городок. Кажется, не такой уж и маленький, но мне теперь все земные городки кажутся такими жалкими.
Разумеется, он помнил и другую часть оборванного разговора, касающегося дерзкой папессы Иоанны и теперь посматривал поверх края чаши на Асмодея: ну что? Как цена?
такие дела.
В минуты когда Оробас не вызывал у Асмодея желания растерзать его за неуёмную кипучую деятельность, любопытство, наглость, упрямство и парадоксальную недалекость после граничащих с гениальностью выводов и идей, он даже нравился Владыке Вавилона своей дерзостью, возможной только для юных душой. Дерзостью подчас бессмысленной и бесцельной, воплощавшейся в выходках на заседаниях Сената или, как недавно, нападении на Левиафана.
Увы, Доминион так устроен изначально, что даже глупые и смелые, то есть отважные сердцем, люди, сворачивая шеи, могут совершенно не учиться на своих ошибках. А демоны – и подавно. Свиноферма, как вечная обитель между смертями, им уже не угрожает.
Он не мог сказать Оробасу ни «да», ни «нет», потому что для него ничего не было напрасно – даже бесконечное строительство Башни, разрушающейся порой всего лишь через год. У этого процесса была своя задача и своя цель.
Но если демон так и не обрел смысл жизни – поделиться своим не получится.
Оробас пил вино, как воду – и чаша его наполнялась щедро.
Во дворце владыки в нем не было недостатка.
О ком именно заговорил Оробас, Асмодей понял, когда тот упомянул бегство девочки с монахом. Эту историю он знал. Все её участники умерли, и были разысканы в Аду, если попали сюда прежде смерти самой беглянки из Майнца или отловлены у Врат Святого Петра, если пережили её. Некоторых людей здесь ждали заранее.
Он вспомнил, как скалился толстяк Муссолини, когда признался шутливо в своей уверенности, что в аду его уже ждала разогретая сковородка, а оказалось – апартаменты в Вавилонском дворце. Он был отпущен, когда сам того захотел, в любимую его сердцем Италию, которая в Аду называлась Римом. Молодого (для ватиканского патриарха) папу Иоанна еще не ждали, и потому эту восхительную мошенницу пропустили, а когда история её обмана дошла до Асмодея, минули не годы, десятилетия и долгое время он не знал доподлинно даже её имени, чтобы приказать бесам из тайной службы пересмотреть все списки за день, когда Иоанна объявилась в Аду.
Люди не лгут демонам, спрашивающим их имена. Напуганные неизвестностью, они говорят, как их зовут так же бездумно, как маленькие дети. И солжет разве что один на миллион. И в лжи этой нет смысла. Если только это не ложь Агнессы из Майнца, обманувшей весь католический мир.
Ни одна из женщин, назвавших Майнц местом своей жизни, умерших в тот день не оказалась папессой, ни одна из Агнесс – тоже. Иоанны, Джоанны, Жанны были служанками и крестьянками, дочерями и женами торговцев, монахинями и аристократками - но ни одна не была той самой девочкой из Майнца, в двенадцать лет спутавшейся с монахом и ушедшей с ним от беспросветной рутины и унылой женской судьбы.
Годы сложились в столетия, а поиски не давали результата.
- Её путь завершился на площади "Конкордия", - произнес Асмодей устало, - и там же начался другой. Ты знаешь что-то, чего не знаю я?
Он сделал глоток вина – лишь смочил губы.
- Я знаю всё о Великом Левиафане с того последнего дня, когда он был в Сенате. – Он лукаво усмехнулся, выдерживая небольшую паузу, - всё то же, что и остальные, конечно. Но, скажем так, намного детальнее.
– Ты находишь меня упрямым, я знаю, – Оробас с удовольствием посмотрел на собеседника, потом – в узорчатые тени полупрозрачных крон; невидимые слуги принесли опавший лист и он задумчиво вертел его в руках, рассматривая, словно пытаясь сличить – похож ли на тот, что он помнил или платан сделан с ошибкой, с огрехом?
– Наверное, как говорят некоторые злые языки, мне следовало бы быть ослом… – он усмехнулся, но посерьезнел: – Ты помнишь ослов? Я совсем забыл, какие на самом деле животные… все наши пути начинаются на Конкордии, и лишь разум отпирает ее врата, они не могут там пройти.
Ему нравилось ощущение легкости, которое поначалу дает алкоголь и в него демон окунался с готовностью и удовольствием. Выпил еще, почти не замечая, что пьет, потому что в тот момент думал, а правильно ли он помнит опьянение, так ли оно должно выглядеть. Играть в эту игру было забавно, потому что там, до Конкордии, и до смерти, было нечто такое, что нельзя. Нельзя знать, нельзя помнить, нельзя произносить и оно беспамятно и непроизносимо. Стерто. И, когда головокружительно сложные чары стирали, они могли задеть что-то еще, что-то вокруг… Если бы Асмодей попытался проникнуть в разум собеседника, потерянно уставившегося в пространство, он бы нашел его мысли, мягко скажем, странными. Как выглядят ослы? Как смотрят, если коснуться косматой головы? Как поворачивают голову, если потянуть за привязь?
– Мое упрямство приводит меня порой к удивительным открытиям, – вдруг произнес Оробас, помолчал, поддразнивая паузой, снова повертел лист в руке и он начал делаться золотым от его прикосновения: – Но чаще я просто самому себе нахожу кропотливые идиотские занятия. Я искал ее не как ты, не так, как это сделал бы демон, менее заслуживающий сравнения с ослом. У меня было ее лицо, а ты знаешь, я умею очень внимательно смотреть, и однажды я выбрал свободный день и посмотрел в лица всех людей, населяющих Ад. На те лица, которые они помнят у себя, истинные лица, не личины, надетые поверх… и, как ты уже догадался, я ее не нашел.
Остроконечный лист, до последней жилки ставший золотом, переливался в пальцах, кусался, резал остриями – Оробас начал превращать его обратно, но он стал хрупким и чернел. В конце на пальцах осталась кровь и немного пепла.
– Я продолжил поиски. И пришел к одному выводу, который тебе бы показался интересным и в какой-то мере забавным.
Он знал, что может разболтать больше, чем планировал. В ажурном теплом мареве теней и света, в медовом запахе трав и листьев можно было плавать как в патоке, и вязнуть, и тонуть. Оробас рассматривал темное, почти черное вино, медленно смаковал, узнавая безо всяких названий, как узнают старых друзей или, скорее, старых врагов. Это из Эдема, веет горечью и проклятьем, но сладкое, сладкое… Что такое «друг»? Они были у него? А когда-то? Что означает это странное слово? Смешно. Он хорошо знает язык торга, но не бескорыстия, а от идеи дружбы веет чем-то таким, абсурдно упушенной выгодой. Зачем оно нужно это слово? Кому? Смешно ведь.
– Люблю истории с деталями. Подробности оживляют повествование, не находишь? Самые внимательные свидетели – лучшие рассказчики, – вдруг сказал он с обескураживающей наглостью, подцепил кусочек сыра и, жуя, с интересом уставился на Асмодея.
такие дела.
Последние десять столетий, когда кто-то говорил Асмодею, что знает что-либо про него, демон едва заметно пожимал плечами – он был существом организованного ума и простых привычек, а потому не удивительно, что приближенные и не только считали его поступки предсказуемыми, а образ мыслей – понятным.
Оробас мог бы добавить, что Асмодей считает его и юношески-порывистым, и непоследовательным, и дьявольски везучим, к примеру в том, что самому Асмодею молодой Сенатор не имеющий за плечами тысячелетней истории, сплетенной из договоренностей, сделок, предательств и союзов с сильнейшими демонами Ада, был удобнее, чем Ваал, Ситри или Маракс.
Или признать, что выглядит в глазах Асмодея романтически-порывистым.
Но темой беседы гость избрал своё упрямство и покаялся именно в нём, прежде чем вернуться к затронутой теме про персону, давно Асмодея интересовавшую.
Безуспешные поиски – конечно же…
Как могло Оробасу удастся то, что не смог сделать Асмодей?
Демон задержал взгляд на стремительно истлевающем листе в пальцах гостя.
Отметил молчаливым кивком признание в способности, о которой и не подозревал – видеть истинные лица. О своих он предпочитал не распространяться. Подумалось, что говорит Оробас об этом не просто так – намекает, что мог бы быть полезен, если в таковой услуге окажется необходимость.
- Просмотрел лица, как пролистал книгу судеб, - заметил он задумчиво, - так и какой же вывод ты сделал?
Отвлекаться на рассуждения о свидетелях и рассказчиках он не хотел и потому попытался вернуть Асмодея к рассказу.
- Скажи еще, что и не было никакой Иоанны, что это выдумки человеческие. Как не было и Шекспира или Гильгамеша, или Париса… Я легче поверю в то, что она у кого-то из наших соперников. И однажды будет предъявлена, как возможная плата за услугу…
Он сдержано выдохнул.
Тщетные поиски. Чем дольше они длились, тем более желанной становилась эта неведомая женщина, и Асмодею никак не хотелось допустить мысль, что она, сумевшая обхитрить кардиналов и личную обслугу, не смогла жить достойно в посмертии и сгинула среди зверья или же стала одной из химер.
Вы здесь » Dominion » Летопись Ада » Daemon ex machina - октябрь 1890