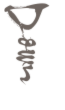– Вот как ты обо мне думаешь, – Оробас не удержался и тоже фыркнул: – И ты, скрепя сердце, ложился под бесчувственного и, наверное, эгоистичного мудака… ради чего, ради Британии? Лоу, обидно!
Он потерся об колено, опустив руку, нащупал его и, силой отведя в сторону, прошелся пальцами вдоль, выше, по внутренней стороне бедра, дальше, тронул член, но безо всякого интереса прошелся дальше, до груди и горла. Чуть сжал, запрокидывая голову, и мокрый большой палец скользил под челюстью:
– Хочу тебя целиком.
Не знал, зачем. Или догадывался, что не хочет делиться, бесится, ревнует и снова требует принадлежать себе-единственному, и снова злится от недосягаемости. Оробас догадывался, что так, как он хочет, не будет, но это не останавливало. Ничего не останавливало.
Нависнув, он целовал его в беспомощный рот, и ласкался змеиной головой, так и держал за горло, потом поймал тонкое запястье и прижал к теплому влажному камню. Мысли… а мыслей не было. Смотрел на себя будто со стороны и думал – то ли это, чего он хотел или просто в очередной раз телесные жалкие потребности туманят рассудок и на следующий день все будет так же, как раньше, будет одиночество и пустота, злоба, ощущение, будто что-то снова ускользнуло, мелькнуло, подразнило в руках, но снова, снова, снова не то и не так. Не с тем. Просто сейчас ему нужен был Лоунтри, на сколько-то как шпион, как верткая сильная крыса с тысячами глаз, на сколько-то здесь, сейчас, с его покорным тоном, с его обещанием служить, с его…
И все же он лжет, сука. Считал идиотом… небось, считает так до сих пор, а?
Не хочешь ее найти? Тогда я сам найду.
Но он это даже не подумал, чтобы нельзя было прочесть и украсть мысль. Вместо этого постарался вспомнить, как это было. На самом деле не понял и не догадался, просто увидел.
– Помнишь Алидже? У нас там был роскошный дворец… Я тогда просто увидел.
Отпустив горло, Оробас запустил пальцы в мокрые волосы и касался губами губ, шеи, помалу, дозированно, отвлекаясь на то, чтобы вспоминать и сцеплять свою память с чужой. Нет, это было учить не лень…
…Фиговые деревья рядами уходили по равнине. Плоды вызрели и были собраны, ветви отдыхали от тяжести и от древесного своего труда – из земли поднимать соки, чтобы питать всякого, кто протянет руку к фигам, темным, как высохшие головы. Теперь поздно, и ветер носит пыль. Листва шелестит, шелестит своим, особенным тоном. На окраине плантации – ветхий сарай, доски выбелены от солнца и стены просвечивают, растрепавшаяся солома шуршит о чем-то своем, кажется, даже без ветра.
Дверь – широкая воротина, распахнута и подперта, и виден квадрат неба, нежно-фиолетового, малинового, персикового по краю, накаляющегося в предчувствии солнца: скоро покажется, будет новый день. Лоунтри стоит, подпирая косяк плечом, его тонкий профиль на фиолетовом, и плечо обнажилось в незапахнутом полосатом крестьянском халате… новый день, в котором у них нет ничего – ни обязательств, ни печалей. Он пошевелился на соломе, кутаясь от прохлады в потертое одеяло, единственное на троих и принюхался – пахло хлебом и дымом. Задержал взгляд на мыши, спросил взглядом, но тот не ответил, все смотрел куда-то в сторону и вперед, как загорается туман между рядами деревьев, и Оробас, удобней устроив гудящую после вчерашней попойки голову, отступил на пару шагов, чтобы посмотреть сквозь стену. Да, это Каруджи жарил лепешки над углями, жег на крохотной печке остатки поломанных и ветхих корзин, в избытке валявшихся в сарае. Хоть зачем-то они пригодились.
– Откуда у нас еда? – удивился тот, кто еще не успел обзавестись даже мечтами о том, чтобы называть себя владыкой Оморры.
– Оттуда, – буркнул Каруджи, обернулся на взгляд, усмехаясь: – Украл. Проваливай с одеяла, если выспался и идите завтракать.
– Пойдем? – и он отвел взгляд, не успев возвратиться от зрения, видящего через стены, просто по привычке посмотрел на того, к кому обращался и увидел в первый раз. Лоу так и смотрел через проем вдаль, вперед, присутствуя зыбко и созерцая, Лоу обернулась, учуяв, что это он – ей, обернулась и посмотрела в глаза, задвоившись с профилем на фоне этого утреннего раннего недозрелого неба. Спустя мгновение они вновь соединились.
Видение подернулось мутью, пропало, оставив одно лишь теперь, десятилетиями и веками позже, в подземельи немыслимого дворца, в белесой воде, залитой ароматными маслами, бережно прикасаясь, обласкивая шею, плечи, руки, которые еще недавно ломал, выжимая вопли – это больно? А теперь?
– Так ты это теперь называешь? Шлюха?
Это чтобы грубостью окончательно растоптать воспоминание, отогнать прочь, душными благовониями забить прелый запах соломы, и дыма, и свежих лепешек. Выбравшись на каменный бортик, Оробас увлек к себе своего бывшего и будущего любовника. Так и не отпустив руку, заставил приблизиться, заставил взять ртом пальцы, огладил раздвоенный язык. Они знали друг друга так давно, что почти не было смысла играть и что-то изображать. Оробас просто делал то, что нужно, делал приятно слабому и глупому мышонку, который всегда хотел принадлежать больше, чем чего-либо еще. И только перед собой он делал вид, будто на самом деле не злится, будто просто по привычке играет тирана. Только привычка давно закончилась, маска приросла. Ему нравилось.
– Давай, поработай ртом. В тот раз я не кончил.
- Подпись автора
такие дела.