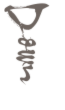У мира сущего есть две стороны. На одной – идеи и интриги, поступки, долгое обдумывание, ходы и союзы, предательства и обманы. Это мир слов и смыслов, мир политики и экономики. Но с изнанки есть только тьма и тени в ней. Колышущиеся контуры тварей, непомерных и невообразимых, как сокровища, копящих мрачные знания и откровения, которые выворачивают материальное, извращают, искажают – для новых странных целей, в которых нет места корысти, лишь желания.
И кажется что один – пришелец из первого мира, мастер интриг и тонкой игры, просчитывающий ходы, обдумывающий решения, а его спутник – незваный гость из второго, изуродованный своими изысканиями настолько, что каждый из его поступков видится то капризом, то глупостью. Так кажется. Так видится со стороны. Но они оба – симбиоз того и другого. И пернатая тварь, гибко изогнувшаяся, всеми своими парами мелких крыльев металлически сверкающая, смотрит безумно. И невысокая блондинка в антрацитово-сером платье поправляет мех на плече и улыбается хитро. Мех золотой и черный, в рисунке пятен, Олоши касается его кончиками пальцев:
– Выглядит на редкость безвкусно.
– Я ему передам.
– Мне что-то приготовить к встрече? О чем ты хочешь говорить с ним?
В вычурном будуаре, где кругом мрамор и бархат, даже слишком пошло, чтобы поверить, что все взаправду, они выглядят как жеманная парочка, собравшаяся на благотворительную вечеринку. Только воркуют они на другие темы.
– Ты и так все всегда знаешь, – Оробас пожал голыми плечами и покосился на себя в зеркало, оценивая. – Он будет что-то просить взамен, но король не был бы королем, если бы это было так легко угадать.
– Тоже мне бином Ньютона.
Олоши придирчиво рассматривал свой костюм, вопреки всем правилам приличия, сделанный только что, но в положении презираемых безродных есть свои неоспоримые плюсы: рамки дозволенного и приличного куда шире. Древние демоны наряжаются в вытканные ткани и сшитые наряды, как будто это чем-то их выделяет.
– Снова будет ныть насчет акцизов на алкоголь, он постоянно только об этом и плачется.
– Не постоянно, с а тех пор, как я подарил ему Локум. Кстати, я могу ему что-то пообещать?
– Как обычно, снижение акцизов на экспортируемые вина. Пусть убирается со своими помоями куда хочет. И какой же здесь нужен галстук?
Оробас обернулся, расправляя вторую перчатку по предплечью. Тонкий шелк изогнулся складками, не стоит и присматриваться, чтобы понять – настоящий.
– Черный, с золотым рисунком сот. Мелким таким… не объяснишь, почему я опять слышу слова Куачи? Расширение, блядь, рынка, рост и прочее? Я не собираюсь никого делать еще богаче!
Демон протянул руку, сложил повеление и сделал тонкую полосу ткани, через мгновение проявились нити вышивки. Олоши рассмотрел, что получилось, прикидывая, пойдет ему или нет.
– Ваше высочество, ты нас всех достал. Либо ты что-то хочешь дать Пурсону, либо нет.
– Я и не хочу. Но придется.
– Значит, ставка акциза – семь с половиной процентов. И возврат вычета после продажи. Будет клянчить что-то еще, не ведись, он все равно вернется к этой теме. Не надевай кольца, иди сюда.
Оробас недоуменно обернулся. Олоши показал бархатную коробочку, в которой обнаружились серьги и колье – сделанные из платины неправильные кубы на тонких цепочках, нечто геометрически небезупречное, и оттого притягивающее взгляд.
– Модерн двадцатых?
– Современное искусство.
Оробас вертел в руках единственное кольцо, которое успел взять из шкатулки – свой перстень с сигиллем, свой неизменный атрибут, якобы подражание папскому, но нет. Вовсе нет… он чуть вздрогнул, опустил светлые ресницы, когда Олоши застежкой проколол ему ухо, прижал выступившую каплю платком.
– Если ты ему ничего не дашь, ты ничего не получишь.
– Я знаю.
Его лицо совсем близко. И за темными глазами – другие, глаза диковинной птицы. Он снова отводит взгляд.
– А он знает, чего ты хочешь. И я знаю, что ты хочешь этого слишком сильно.
Острие вдавливается, упруго прокалывает. Чудовищная птица, тень ее во всю глубину, сколько ни смотри – от рук, которые держат причудливую серьгу и на все доступные шаги внутрь изгибы туши, кольца многокрылого тела. И нигде не убежать от острого взгляда: только попробуй сделать глупость. Не только ничего не получишь, но и чего-нибудь лишишься. Оробас хотел огрызнуться, но отвлекся, просто поправил перстень, туго надетый поверх перчатки.
– Последнего, кто говорил со мной о любви, я надел как манто. Твои перья я вставлю в берет.
– Если ты хочешь пару перьев, я тебе их просто подарю, – фыркнул Олоши и подставил локоть: – Пошли, раздразним это кубло.
Оробас положил пальцы на сгиб его локтя и оба исчезли.
Бликующие ступени из обсидиана. Внутри живет пламя, и искры разбежались из-под туфель. Двери, высокие и острые, черные как крылья падших ангелов. Никто не спешил открывать их, но безродным плевать на протокол и подобные мелкие оскорбления. И на двери тоже плевать, они видят и сквозь стены, и сквозь двери, и никто не рад тому, что видит. Олоши остановился и произнес Слово, чтобы остановить весь зал, весь воздух сделать острым и неподвижным. И каждый демон стал в нем как в янтаре, судорожно стал искать отмычку к Слову, которое как темный тяжелый замок, как цепь и глухой безответный стук распахнувшихся дверей о стены справа и слева.
– Принц Оробас, Владыка двенадцатой части Ада! – все стены содрогнулись от этих слов, кто-то, что был ближе, рухнул на колени, потому что мудрое тело, в чьей конструкции жили древние инстинкты, лучше знало, когда нужно сжиматься в комочек от падающего на голову грохота.
Дворец Пурсона – подлинный дворец, подлинно королевский. От него веяло излишеством и древностью, и непомерностью первых владык Ада, изменявших и украшавших свой дом. Потому у Оробаса и его спутника ушло ощутимое количество времени, чтобы достичь середины зала, а у гостей короля – чтобы убраться с его дороги. Всем было донельзя интересно, как произойдет встреча короля-без-королевства и принца-выскочки, но смотреть на это каждый пожелал с почтительного расстояния.
Седобородый король в алом, огромный как медведь, и с алым тлеющим следом на щеке, только улыбнулся. Каждый в зале убежден, что вот здесь вершится история и новая глава противостояния властительных владык, а Оробас просто пришел решить некоторые дела, выпить и потанцевать. Пурсон, даже в человеческом облике похожий на степенного льва с всклокоченной гривой, грациозно хищного в каждом своем движении, театрально красиво опустился на колено и протянул руку. Для начала стоило убрать подальше отвратительного Олоши. Это несложно, в мире не существует танцев, предусматривающих троих партнеров.
Оробас, принимая вызов, подставил перстень, требуя признания своего вассального статуса и, после того, как король коснулся губами сигилля, позволил себя увести. Оркестр, в котором едва ли нашлось меньше полудюжины легендарных музыкантов прошлого, расцвел вальсом. Почему-то все они были убеждены, что, если выбрать достаточно сложный танец, он непременно грянется со своих высоких каблуков. Оробас прикрыл глаза, ориентируясь только по теням. Удивительно, как можно не понимать, что движения это просто красиво, и не всегда им быть состязанием.
– Я бы мог убрать это, – неожиданно для себя самого произнес он, протянув руку и коснувшись незаживающей раны, следа, им самим навсегда оставленного на лице короля.
– И как мне тогда убеждать сторонников в моей оппозиционности? – развеселился Пурсон, закружил, поймал, положив обе ладони на талию – через тонкую ткань ощутился сухой жар его рук, наклонился, чтобы произнести вполголоса: – Я слышал, что ты пытаешься разобраться со своими блядями, но не предполагал, что это станет целью визита. И не предполагаю, что это может стать поводом для новой ссоры.
– Слишком хорошо звучит, – не поверил Оробас, поймал взгляд, снова потерял, поворот, поворот, но что рассмотришь в темных как куски угля и ничего не выражающих глазах? Они оба умеют играть и играют очень давно.
– Я бы мог спросить, зачем ты забрал моего рыцаря, но мне безразлично, что ты с ним сделаешь. Раздел, хорошо, тебе идет этот мех. Раздень еще пару раз и у тебя будет красивая шуба.
– Мой советник.
– Не располагаю информацией. Твоего отвратительного советника очень сложно отыскивать, когда он этого не хочет. Кажется, у него квартира около Конкордии, если хочешь, напиши письмо, мой секретарь оформит почтовую доставку.
– Смеешься?
– Ну, если только немного.
– Пурсон, всегда, когда ты говоришь длинными предложениями, ты лжешь, – раздраженно бросил Оробас, положив обе ладони на грудь короля и, чуть подумав, опустил и голову: – Верни мне моего советника, или я тебя разорю.
– Не разоришь.
– Но попытаюсь.
– Он того не стоит… Пусть я здесь не при чем, но я могу помочь его найти. Хочешь?
– Я сказал, чего хочу.
– Ох, Дева Мария, какой же ты упрямый хам, Оробас.
– Ну найди.
Очередное па незаметно перешло в объятья и, повернув своего партнера к себе спиной, Пурсон за плечи развернул его к толпе и показал пальцем.
– Вон он, стоит около фонтана с каберне.
- Подпись автора
такие дела.