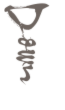В лазурных глазах Гая Фанния отражается залитый солнцем песок, блики, которые лижут влажный рельеф чужих мышц, всполохи солнца на лезвии, когда короткий меч, стремительно вскинутый, плашмя отчеркивает окружность, отрезая пласт горячего воздуха, и вспарывает упругую плоть, высекает из противника вспышку пунцовых капель.
Вскидывается с кресла мощный чернокожий Сир, грузный сириец, покрытый перекрёстной насечкой шрамов, некогда один из этих рабов, а теперь ланиста, управляющий хозяйской школой. Вскидываются ревущие трибуны. Женщины рвут на себе одежды, и мнут разлапистые груди, предлагая себя гладиаторам, кто-то торопливо по-скотски сношается прямо посреди бесноватой толпы, на верхнем ярусе плебса драка. Город завяз в возбуждении таком густом, что здесь едва можно дышать.
- Вот этот, - Гай откусывает от крупной клубничной ягоды и указывает на бойца только взглядом, достаточно пренебрежительным, чтобы не выдать своей заинтересованности.
- Этот дикарь не стоит внимания храма, - cирийцу не хочется терять бойца, не только прожившего в неволе год, но и заслужившего на арене такую славу, что Рим сейчас ревет, прославляя его. Не хочется терять славу школы и деньги, которые он принесет хозяину.
- Чемпион Помпей не стоит внимания храма Эскулапа в Риме? – на красивом, классическом лице гостя рисуется то искренне недоумение, которое свойственно профанам, готовым внимать любой истине сведущих. – А кого бы ты посоветовал? Храму нужен достойный боец, который смог бы достойно представлять Эскулапа на эквириях!
И пока Сир увлеченно говорит о силе и норове своего товара, лицо Гая Фанния теряет всякое выражение, точно душа покинула его тело. Зато обрела новое – тело поверженного в песок противника, еще мгновение назад казавшееся абсолютно и безвозвратно мертвым. Теперь оно поднимается с песка за спиной оглушенного толпой триумфатора, чтобы всадить в его спину меч – между ребрами. Трибуны цепенеют. Сереет антрацитовый сириец, и пот крупными каплями выступает у него на лбу. Лицо Гая Флавия оживает тоже.
- Полагаю, ты оскорбил Эскулапа своим отказом, и тот забрал бойца себе так или иначе. Пусть гладиатора отнесут в храм, - одолжив ланисту собой, Гай Фанний раздраженно поднялся с подушек и направился к выходу из ложи. – Молись, чтобы Эскулап совершил чудо!
Это было время, когда демоны поднимались в вещный мир, баловали людей магией, собирая достойную паству, чтобы позже присовокупить эти души к своим легионам в преисподней, и обеспечивали чудесами храмы в свою честь. Гай из славного, хоть и плебейского рода Фанниев, был настоятелем этого храма неполный десяток лет. Его тело Лерайе нравилось вполне и располагало теми связями и властью, которые были весьма полезны святилищу. Где еще исследовать болезни как в месте, куда норовят принести каждого захворавшего? И если ты будешь успешен, люди скажут, что Эскулап совершил чудо. А если не будешь, что ж, они не заслужили внимания божества.
Центральный зал храма усеян телами страждущих. Их приводят родные, раненых солдат и стражников волокут сослуживцы, гладиаторов после нынешнего боя привозят рабы школ, кто-то приходит сам, подпирает стены, бредит, разметавшись на полу. Под крышей густой патокой стоят стоны и дурманящий дым курильниц. Змеи – вечные спутника бога – покрывают пол и плотно уложенные на мраморной мозаике тела живым, подвижным, шелестящим ковром.
Галла несут мимо этого моря истерзанных болью тел в дальние покои. Его тело, израненное и залитое запекшейся кровью, облепленное песком все еще представляется совершенством, достойным резца греческого скульптора. Но дело не в этом. Иногда Лерайе замечает в людях искру, гений, вдохновленную, исчерпывающую инакость, и это ни с чем не сравнимое ощущение отсылает его к Создателю, заставляет тосковать по неумению, неспособности творить что-то кроме страдания.
Демон возникает в дверях бесшумно в своем истинном облике. В покоях свежо, ночной воздух несет с Тибра прохладу и душок ила, и аромат зверобоя в курильнице почти не чуется. Омытый и перевязанный раб все равно горит, и его тело, укрытое испариной, как вуалью, в тусклом свете масляной лампы кажется золотым.
- Знаменитый Гектор из Галлии, чемпион Помпей, - голос звучит мерно, вкрадчиво, точно стелит титул вдоль прикосновения: Лерайе проходит кончиками пальцев по этой сияющей испарине вверх по бедру, еще часы назад резному из камня, а теперь горячечно жаркому, мимо повязки на бедрах и той, что перехватывает рану. Рану не прижгли, это лишнее страдание уже не поможет. –Дай мне руку, и я подарю тебе ту свободу, которую ты мечтал купить. То войско, которое ты мечтал возглавить, и то воздаяние за кровь твоего народа, семьи и близких, которое ты мечтах получить.
Прохладные пальцы незнакомца вкладываются в жаркую ладонь гладиатора.
- Пойдем со мной, и я сделаю тебя величайшим из ныне живущих воинов.
- Подпись автора
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?