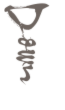Пронзительный вздох, стон, вопль – режет как плоть снимает с костей. Невозможно слушать трезвым. Невидимые слуги рады услужить (что за пошлый каламбур), льют вино в бокал, и он пьет, не чувствуя вкуса, осоловело смотрит.
Драматичный луч света падает сверху, высвечивая белый покров на голове Куарре, покров чуть коробят рожки, но это мелочи. Дьяволица поет божественно, ангельски, безжалостно, заполняет сцену собой, весь воздух собой, и зал почти не дышит. Оробас в своей ложе дышит, но ему святотатствовать не впервой. Ему темно и приятно в полумраке приглушенного, пристыженного золота, и черных свечей, и тайно поблескивающего перламутра, драпировок черно-пурпурного бархата. Только голос тревожит, ведет, не дает забыться, и с Куарре всегда так. Купить бы ее, только вот уже не купишь. Поймать, запереть в клетку, чтобы пела только ему… он улыбается своим мыслям, опустив тяжелую голову на ладонь. Он может. Он знает, сколько слоев тайных знаков нужно создать, чтобы удержать демона, знает, как отчертить бытие непересекаемо, совершенно, чисто, но он полулежит на софе, смотрит на луч света и невидимые слуги-опекуны забирают бокал из безвольных пальцев.
Рядом возня – Бруно и какая-то его очередная блядь портят момент возней, но это терпимо. Пошевелилась праздная и невостребованная девственница на полу у ноги. Больше, чем собственная нагота, ее смущает отсутствие внимания.
– Мне надоели все эти черные розы и завитки, шипы, лозы, листья, смертельно надоела немусская пошлятина, все эти черви, свитые в уродливые узоры, принятые в краях, где ни черта не видно дальше собственного носа. Понимаешь? – вдруг раздельно произнес он, не открывая глаз. – Простая эстетика. Простая и строгая. Пусть будет белый, но не чистый, мрамор или слоновая кость. Золото. Алый? Нет, багровый, густой, сильный цвет, без пыли. Никакой пыли.
– Римский стиль? – осторожно уточнил мягкий баритон Бруно, и слышен шорох чешуи его крыльев, слышно, как когти берутся за перо.
– Почти.
Оробаса уже не интересовало происходящее на сцене, он сел, са достал себе кусочек сыра с оливкой и жевал, размышляя. Полгода до карнавала, определяться с постановщиком нужно уже вчера, и потому вокруг их вилось с десяток, стоило только появиться в границах Гоморры. Неприлично предлагать себя, крайне неприлично наниматься, но вот появиться в поле зрения в выжидательной позе это им гордость дозволяет. Торрелье, еще недавно на памяти Оробаса бывший Алоизом Блюмауэром, и Михаэлис, и Кьйот, и вот, Бруно, полупоэт-полудракон, робко улыбающийся широкой пастью и всерьез считающий, что затащить владыку Оморры на «Нарцисса» означало положить победу к себе в карман. Может, и означало. Два года подряд карнавал ставил Аполлинер, и стоило подстегнуть этого наглеца. А может, и нет.
Он думал, скользя взглядом по сцене – танцующие фигуры собираются в круг, бесятся, грудясь у ног Куарре, черным маслом вымаранные, подползают ближе, хватают ее за покрывало, оставляя следы грязных рук. Искусное, хореографически выверенное месиво. Неожиданно в кругу грязных содрогающихся тел появляются двое в белоснежном, почти обнаженные. Юноша и девушка, пошло украшенные цветами, разрисованные цветами, кружатся, обнимают друг друга, и дьяволица-всематерь благословляет их, воздев руки, а черная массовка рассыпается среди декораций.
Оробас глядел, уже не отрываясь. Светлые, желтые глаза демона всегда выдавали его, и Бруно, напрасно прождав продолжения разговора, откинулся на подушки, наблюдая.
– Пошлятина, – зевнул он, когда Нарцисс склонился над колодцем в сцене, позабыв о протягивающей руки подруге.
– Он бездарь, – в тон кивнул Оробас, улыбаясь, но продолжил смотреть. Не отрывал жадных глаз, когда чуткие руки опустились на разрисованные краской камни из папье-маше, когда Нарцисс склонился над водой и на шее сзади стал виден влажный завиток пряди. Близость ложи позволяла рассмотреть и тени на напряженных бедрах, и часто бьющуюся жилку на шее, и все, что только придет в голову рассматривать.
В колодце как будто что-то мелькнуло, и Нарцисс, широко и картинно размахнувшись, ударил подругу бутафорским кинжалом – фальшивая сверкающая кровь широкой полосой упала на покрывало Куарре и та отступила в тень, чуткие глаза могли заметить, как колыхнулся занавес. Массовка взвыла, выползая из теней.
– Присутствие донны Куарре этот фарс скрашивает, говорят, поучаствовать ее просил Кальдерон, но он рискует своим авторитетом.
– А кто постановщик?
– Приятель Аполлинера … м-м, как его, Тхерше, – перехватив в очередной раз взгляд Оробаса, Бруно добавил: – Этого мальчика еще дрессировать и дрессировать, он только через годы станет актером… может быть.
– Или не станет.
– Очевидно.
Что точно стало очевидным для Оробаса в тот момент, так это откровенность намерений Бруно. Ему стало скучно. Ему хотелось только смотреть, как породистый молодой итальянец стоит среди пляшущих фигур, и как свет падает на его бледное от пудры тело, как свет становится красным, как свет поднимается из-под воды. В сцене они натурально сделали колодец, и оттуда медленно поднялась химера, загримированная в точности под Нарцисса, только искаженная, покрытая плавниками, наростами, гладкой дельфиньей шкурой, уцелело только лицо. Может быть, мальчик и был бездарем, но смотреть он умел, и взгляд у них получился, когда краснота заполнила сцену и зал. Пугающий и тусклый свет. И позади, за ними, переодетая Куарре с бутафорскими кровавыми рогами взвыла арию безумия разом и мужским, и женским голосом.
Лапы-плавники обхватили бедра, руки сомкнулись на гребне, выходящем из хребта химеры. Оробас, не отрываясь, раздраженно согнал с руки муху. Раздражают, твари.
…Когда за дверью ложи раздалась возня, он продолжал пить. Злился, и не понять, на что. Послал невидимого слугу открыть, открыли.
– Простите, что сразу не заметил вашего присутствия, лорд Оробас.
Он обернулся на знакомый голос, узнал почтительно склонившиеся плечи и затылок.
– А, Аполлинер. Выпьешь со мной?
– Если примете мой скромный подарок.
Каков нахал, а?
В полумраке коридора, целомудренно прикрытый шелковым черным плащом из актерского реквизита, стоял Нарцисс.
- Подпись автора
такие дела.