
- Подпись автора
такие дела.

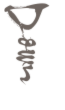
Dominion |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Dominion » Личные истории » 18 дней

такие дела.
30 декабря 2015 года, административный центр Ар-аль-Ашени, домен Оморра
В Ар-аль-Ашени ждали особый день. Центральные улицы украсили выцветшими лентами, гирляндами невзрачной пыльной лаванды и сорных цветков мордовника. Глиняные дома с закрытыми ставнями, все навесы убраны, тишина среди улочек, выстланных нежнейшей рыжей пылью, словно кто-то могущественный и сказочный похитил всех жителей.
Их можно было найти, если прокрасться сумрачными переулками дальше, на площадь Бей-Хиша – там шумно и людно, и городские ворота увешаны срезанными ирисами, и распахнуты настежь. Женщины в белоснежных нижних платьях, в верхних платьях, расшитых золотистыми нитями и стеклом, в красных, оранжевых, охряных, терракотовых – всех цветов глины, крови, солнца. У них нежные платки с кистями и узорами, кропотливо вышитыми долгими вечерами у свечей – семьи по ним узнают друг друга. Мужчины в джеллабиях нарядного синего цвета, и узоры вьются по воротам, стекая на грудь. Нарядные, яркие, они собрались будто на праздник, город свой убрали, украсили, нарядили точно невесту и теперь ждали, посматривая на часы. Часы – гордость Ар-аль-Ашени, башня над рыночной площадью с четырьмя циферблатами была видна издалека, и туда все чаще обращались головы в круглых багряных фесках.
Было что-то неправильное в происходящем. Нечто давящее, обреченное. Кто-то из них слишком хорошо понимал, чего они ждали и как это должно произойти, оттого в толпе видны были другие глаза – застывшие, погруженные в себя, точно в момент высочайшего унижения.
Оно и задумывалось как унижение.
Воздух за воротами задрожал. Часы ударили полдень – бессмысленный в вечно сумрачном Аду, но звук никто не услышал.
Унижение, принуждение, демонстрация не просто силы, а могущества, которое придавливает насмерть – в грязь, в пыль, к земле. Видимое и обязаемое зло.
Воздух за воротами стал пламенем, и из него начала подниматься арка – все выше и выше, она поднялась выше городских ворот и там, за ней, стали видны зубчатые крыши и ряд черных шпилей, и солнце за ними, то же самое, что висело перед воротами и светило само на себя. Процессия, снисходительная и неспешная, двинулась через арку. Первыми на собакоподобных бесах въехала гвардия в черной броне, они несли мечи и лунные знамена с желтым кругом на белом, потом глашатай со своими то ли паяцами, то ли пажами, потом четверо чудовищ с топорами, вскинутыми на плечи и, в центре их широкого и пустого квадрата – самое жуткое чудовище из всех прибывших. Белый и тонкий, змеино гибкий и грациозный как струящаяся вода, неестественный в каждом движении, демон в облике лошади прошествовал по искрам и погрузил бежевые, почти розовые копыта в ашенскую пыль. Остановился, пока его свита, толпясь, вытягивала свой хвост из арки и смотрел неприятными светлыми глазами на людей. На людей, которые махали руками и с восторгом глазели, и кидали цветы, и галдели на разные лады.
Это должно было быть унижением, но они всякий раз устраивали праздник, и каждые пять лет, в день, когда Ар-аль-Ашени снова переприсягал хозяину домена, его встречали как Санта-Клауса. Вынимали из коробок традиционные одежки, выметали пыль, вешали потрепанные хроносом и кайросом городские украшения и выстраивались вдоль улиц, как средневековые дикари.
Возможно, они и были дикарями. Возможно, все это дремало, свернувшись, скрутившись, внутри каждого и просыпалось как раз в таких провинциях, среди пыли, нищеты и вечности. И оно просыпалось в такие моменты, как сейчас, когда мимо прошли уже и всадники на псах, и прозвучала дьявольская труба, грянувшая имя Оробаса так, что его слышно было по всему городу, и сам он проплыл через площадь, оставив цепочку тут же затоптанных следов. Что-то древнее, примитивное просыпалось и тянуло людей вслед за наряженными танцорами, и буффонами, и причудливыми химерами, их бесстыдством и их музыкой. Завтра это не принято будет вспоминать, завтра многие станут прятать глаза, но сегодня даже женщины смущенно улыбаются, украдкой глядя, как на ходу пара актеров разыгрывает незатейливую сценку и гротескная бородатая «жена» бьет тряпкой вихляющего супруга с огромным пришитым к штанам гульфиком. А еще они раздавали деньги. Напудренные дамы на каких-то цветочных повозках протягивали монетки и их тотчас выхватывали, царапаясь об когти.
Оробас проходил всякий раз одним и тем же маршрутом – от ворот до сарая, который изображал ратушу в столице одной из его восьмидесяти четырех провинций. Смотрел, как встает коленями в пыль местная знать – в эти моменты был чрезвычайно полезен Каруджи с его списками. Он мог считать и сверить все имена за считанные секунды, и составить новый список – тех, кто рискнул отсутствовать. Как правило, таковых было совсем немного.
Потом наместник провинции, полагающий себя местным королем, падишахом или богом во плоти, так же униженно, на коленях, стоял с идиотски разукрашенным свитком. Текст им утверждали заранее, изредка внося коррективы – Олоши, стоящий рядом с Каруджи, сверял правильность и давал едва заметный жест. Как-то был случай, когда кое-кто попытался смошенничать, с тех пор Олоши перед подписанием перепроверял. Принц слишком рассеян, чтобы доверять ему что-то сложнее торжественного тычка копытом в документ, на котором ярко загоралась печать.
Строго говоря, печать могла вообще не загораться, но люди любили, когда ярко.
После этого процессия проходила дальше и убиралась из города через вторые ворота – так же, с подниманием арки и с музыкой. Ярко.
такие дела.
Небо, пыль, глиняные домики, женщины в покрывалах и платках и мужчины в джеллябиях — это место напоминало ему родину, и внутри открылась и закровоточила рана, которая, наверное, не заживает никогда ни у одного человека, пока он продолжает быть человеком. Когда это было? В каком сне несколько жизней назад? Песок на улицах Кафр-Эль-Шейха, ему нет и десяти лет, он встает в дверях дома родителей и выглядывает за порог — и ни в каких даже самых страшных снах ни одной догадки о том, что ждет его впереди, маленького египетского мальчика, такого же, как тысячи других.
Ар-аль-Ашени даже звучало похоже, на арабский манер. И люди были похожие, не совсем, конечно, точь-в-точь, но какой-то переплавленный общевосточный, обще-магрибинский тип. Переплавленный в адской плавильне. Сколько лет они живут тут? Вот эта молодая женщина, свежесть щек которой Атта успел заметить раньше, чем отвел глаза — возможно, она сто или двести лет в аду. Здесь спокойная, размеренная жизнь, и если не искать неприятностей специально, перерождения тебя не догонят.
И марево, иллюзия земной обычной жизни развеивается, как мираж, когда к нему приближаешься, рассыпается тысячью осколков, и картина, так напоминающая воспоминания его детства, рвется в клочья, когда в ее центр врывается ад: не такой, какой он был на земле (а он там был, был, был), приглушенный и замазанный под что-то приличное, но откровенный в своем безобразии и безумии, отъявленный в своей непотребстве. Если на земле продажные, двуличные и подлые люди прятали за обычными человеческими лицами свои собачьи морды и свиные рыла, копыта и хвосты, то здесь у них была возможность проявить свое внутреннее содержание во всей внешней красе. И казалось, они ничуть не стеснялись своего уродства, напротив, гордились им, вскидывая высоко чудовищные морды, вываливая красные мокрые языки, глядя свысока на людей, толпящихся по обе стороны. Атту и его спутников зажал людской потоп, запихали со всех сторон, пару раз дали локтями по ребрам. Куда вы все претесь, а? а на что такое изумительное смотреть?
И изумительное явилось. "Оробас, принц Оробас, владыка!" — пронесся шепот-гул по толпе.
Атта протер глаза, но морок не исчез. Да, он слышал уже, что владыка Оморры демон Оробас принимает чаще всего облик коня, но почему-то никогда не представлял себе, что это происходит настолько... реалистично. А тут, в центре всей этой фантасмагорической процессии, на самом почетном месте, был вправду конь. Белый, поджарый, с тонкой кожей, подчеркивающий все мускулы, с розоватой мордой и копытами, как будто голый из-за отсутствия гривы.
— Астагфирулла, — произнес в ошеломлении Атта вслух, и тотчас чей-то локоть заехал ему по зубам. Случайно, кажется, просто люди теснились, подпрыгивали вверх, чтобы получше разглядеть своего повелителя.
Дальше процессию понесло к ратуше, и Атту вынесло вместе со всей толпой — не в очень удобное место, но все же, краем глаза он видел, как пачкали в пыли свои фески и тюрбаны местные нотабли, кланяясь коню. И как эмир провинции стоя на коленях, разворачивает и подносит список, к которому конь поднес копыто, загоревшееся печатью — мерзким символом подчинения демону.
Когда он собирался сюда специально, чтобы посмотреть на церемонию, которую хотел сделать одним из основных доводов, что в Ар-аль-Ашени на деле притесняется исламская религия, он и не представлял себе, что эта церемония проводится настолько откровенно богохульно и позорно.
Когда демоническая процессия скрылась, народ, галдя, растекся по улицам. Атта вглядывался в лица и с ужасом не видел на большинстве из них отвращения или унижения. Напротив, они сияли радостью праздника и удовлетворением. Изредка вдруг его ищущий взгляд наталкивался на такой же мрачный и напряженный, они смотрели друг другу глаза в глаза несколько секунд и, вздрогнув, отводили взор, как будто испугавшись, что посторонние заметят это тайное сообщничество, эту измену взглядами посреди всеобщего праздника.
Немного удалившись от шумного центра, Атта и его два молодых спутника нашли какую-то едальню и заглянули туда, чтобы купить миску кус-куса и чай.
Атта попытался разговориться с хозяином таверны.
— Салям алейкум, брат. Как поживаешь, как твоя семья. Я пришел со своими братьями, — он кивнул на юношей, одетых в такие же, как и он сам, длинные коричневые джеллабы с капюшонами, из-под которых поблескивали две пары черных любознательных глаз, взиравших на мир с застенчивой насмешкой, — из дальнего домена... мы услышали, что в ваших краях религия не преследуется и мусульманин может жить, как предписывает ему Аллах, не опасаясь преследований. Если это так, я бы хотел узнать, как можно переселиться к вам и готовы ли вы принять добрых мусульман из других краев.
Он начал беседу с намерением вести ее издалека, но сразу же не выдержал и сорвался.
— Но что я видел сегодня на площади, что это значит? Эти знатные люди, правители ваших земель, он считают себя мусульманами?
Отредактировано Mohamed Atta (2024-05-23 04:30:07)
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
– Уа-алейкум ас-салям, – медленно, значительно ответил трактирщик.
Даже чары Башни не могут разрушить эти слова, которыми они приветствуют друг друга. Они, кто помнит, к какому «миру» взывают люди, чтобы не потеряться в Аду, а потеряться легко.
Закончив составлять чашки с рассыпчатой кашей и с бульоном, как оказалось, даже без намека на мясо, он, огромный человек с черной бородой, с глазами темными как куски угля, странно глянул на своих гостей, словно догадался и был рад своей догадке.
– Из Вавилона, да? Все бегут из Вавилона, – он сел напротив заговорившего с ним, оставив резной поднос дальше на длинном столе, сложил руки замком. – Здесь тоже будет трудно. Никто не преследует нас в Оморре за истинную веру, но ее землю нелегко возделывать. В остальном – все так. Выберите селение, поговорите с имамом, он решит. Если вас примут, помогут построить дом, со всем помогут на первое время, найдут вам дело.
На второй вопрос он смотрел дольше и тяжелее. Едва ли он ему понравился, и едва ли у него был ответ, понятный беглецам из немыслимо далекого места. Им нужно объяснять… все нужно очень долго объяснять.
– Сам как думаешь? – наконец, спросил он и слова упали как камни.
такие дела.
Из Вавилона? Атта подавил безотчетное желание поднять руку ко лбу и коснуться метки — невидимой человеческому глазу. Метки, на которой ясно для демонского и бесовского глаза было написано "Флегетон". Он не хотел врать о том, откуда он прибыл, в публичном месте, даже заполненном, казалось, одними людьми. Всегда есть риск, что в толпе затесается какой-нибудь демон, которому в общем-то наплевать на человеческие разговорчики, но несоответствие метки и представления может его внезапно заинтересовать. "Почему это ты говоришь, что из Вавилона, если ты из Флегетона?"
Говорить этим добрым людям, откуда он, тоже не хотелось. Добрые люди... среди простых людей разных доменов бытовал устойчивый миф, что во Флегетон попадают только убийцы, причем не какие-нибудь случайные, а злонамеренные, отъявленные, особо жестокие, и отношение к его жителям, совершавшим вылазки, было крайне настороженным. Атта считал это убеждение мифом. Это никогда не было в полной мере так, при всем том хаосе и кишении толп, что царили в аду — и в прочих доменах попадалась куча бандитов и убийц, прижизненных и посмертных, и во Флегетон не все попадали по профилю. Да и, как всегда, то, считаем ли мы кого-то убийцей или нет, очень сильно зависит от того, каких воззрений придерживаемся. Убийца или героический защитник родины, убийца или политик, принявший волевое решение в сложной ситуации, убийца или муджахед, отдавший свою жизнь за свою веру.
Но на воззрения жителей Оморры в этом смысле рассчитывать было нечего. Больше того, с тех пор, как "База" приобрела немного славы, по городам и весям ада полетел новый миф как уточнение предыдущего: любой мусульманин из Флегетона — это террорист "Базы". Опять же, в жизни все было не так... не совсем и не всегда так. Но говорить "я из Флегетона и я мусульманин" — это был гарантированный способ навлечь на свою голову нежелательное внимание.
— В Вавилоне золота больше, чем земель, пригодных для распахивания, — изрек он очередную общеизвестную мантру, не подтверждая и не опровергая догадки собеседника. — Демоны купаются в роскоши, на долю простых людей достаются только тяжкий труд, кнуты, унижения и засохший хлеб. Мне хотелось верить, что здесь можно быть самому себе хозяином, жить с того, что сам вырастил на земле, скромно, но не склоняя головы ни перед кем, кроме Аллаха.
Напряжение сгустилось в воздухе и повисло между собеседниками.
Кажется, Атта уже сказал слишком многое. Важно было сдерживаться, как бы не хотелось влезть на стол и высказать все, что он думает по поводу сегодняшней церемонии в простых и ясных словах. Даже специального опыта не надо было (а он, вообще говоря, успел и опыт поиметь), после таких речей обычно толпа не рассыпается в благодарностях, мол, спасибо, просветил нас, темных, а мы-то и не замечали, вовсе нет, обычно после таких речей бьют или сдают в кутузку, или сначала бьют, потом сдают в кутузку, или наоборот — любые комбинации к вашим услугам. Пока "База" была практически неизвестной никому, кроме самих участников, для Атты не было большой проблемой посидеть пару суток, недель или даже месяцев в каком-нибудь вшивом каземате какой-нибудь захолустной провинции за очередное "оскорбление правящих лиц" и "сеяние вражды". Но с тех пор много воды утекло, за "Базой" числился длинный список подвигов, внушающих беспокойство на уровне повыше сельских старост, и попадаться в руки стражей порядка было не очень разумно.
И все же совсем смолчать он не мог.
— Но это же явный ширк, — проговорил он шепотом, склонившись над темной, истертой локтями и подносами столешнице. — А если кто не придет, то что тогда? Из знати или из простых людей.
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
– Нет никакого божества, кроме Аллаха, – медленно произнес трактирщик, тяжело глядя на гостя. – Вы покинули землю молодыми, и здесь недавно. Сложно будет все объяснить, но люди приходят или не приходят, никто им не указывает. Что до знати – у них самих недурно было бы спросить.
Он отстранился, словно собирался встать и уйти, но взгляд, взгляд жег и горел какими-то непроизнесенными словами, чем-то в самую глотку забитым. О таком только и говорят с незнакомцами и случайными попутчиками, людьми, которые на следующий день исчезнут из жизни, словно их и не было. И потому после мгновенного колебания он остался, едва заметно вздохнул.
– Кто-то считает, что этот – фаришта, тот, кого ты увидел на площади, – так же негромко проговорил, избегая хоть словом указывать на демона. – Управленцами Ада будут грубые и очень сильные ангелы. Они во всем покорны Аллаху и выполняют то, что велено. Кто-то считает, что этот – из них, и то, что с нами со всеми происходит, это наказание.
такие дела.
Больше не нужно было слов. Значимых слов, весомых слов, слов, разжигающих огонь. Они проели и выпили чаю, еще немного поговорили с трактирщиком о простых житейских вещах — о ценах на пшеницу, о том, часты ли дожди и бывают ли пожары из-за засухи (нет, пожаров не бывает, здесь, в Оморре, ничего не горит, кроме как священных углей демона из Сан-Домини; вот так из самого незатейливого разговора о погоде узнаешь принципиально важные вещи, которые впоследствии просто необходимо учитывать). Ну хорошо, Господь — или все же демон? — избавил вас от пожаров, но не избавил от засухи, наводнений, нашествия саранчи из Немуса.
Но им пора идти. Всего хорошего, премного благодарны за еду и беседу.
Они накинули капюшоны на головы, погружая лица в глубокую тень, и выскользнули из города.
Они шли пешком, и это была долгая и пыльная дорога, которую все трое проделали в тишине. Когда уже смеркалось, они подошли к колодцу, заранее отмеченному на карте, возле крохотной деревеньки.
Нужно было запастись водой на остаток пути.
Атта забросил ведро на веревки в пропасть колодца, оно загудело, усиленное эхом, отраженным от каменных стенок, булькнуло в глубине и затихло. Теперь Атта с усилием тянул его назад, полное до краев. Деревянный ворот поскрипывал, грубые витки веревки обжигали ладони.
Он вытащил ведро и поставил на край колодца.
В водяном круге, распадаясь и дробясь осколками и волнами, отразилось бледное, перекошенное от гнева лицо.
— Фаришта. Надо же, — проговорил Атта медленно.
Обернулся к своим спутникам, готовящим баклаги под воду:
— Демоны умирают, как и мы с вами. Не навсегда, конечно, но... как и мы с вами. Уаллахи, мы покажем этим людям, что их "фаришта" смертен, что он такое же мясо, как мы и гниет, как мы. Мы убьем коня и потащим его тушу на веревках по улицам Ар-аль-Ашени вместо следующей церемонии присяги — иншалла.
— Иншалла, — отозвались его две верные тени.
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
24 декабря 2020 года, Сан-Домини, домен Оморра
…Толпа заполняла площадь. Тысячи лиц, чистых и изуродованных, таящих печаль вековой жизни, тронутых искажениями, превращенных в звериные морды, и на всех одно странное, наивное ожидание чуда. Через площадь, по коридору из деревянных заслонов, украшенному лентами и еловыми ветками, медленно двигалась процессия епископов в золотом и пурпурном, над их головами нависали орифламмы, золотились и сияли кресты. Дикое, невозможное зрелище… для Ада. Где извиваются змееподобные бесы, где вопли вырываются из рядов клетей, и где нечистые господа собираются в вознесенном на небо и перевернутом дворце, полном скверны и уродства, оказывается, служили рождественскую мессу. В час, когда небо темнеет сильнее всего.
Следом за процессией нарядные служки несли паланкин с золотым навесом на тонких колоннах. На невысокой скамеечке, в ниспадающих складках белого и золотого, некто, увенчанный тройной короной Папы, сдержанно улыбался приветствующим его людям, и на руках у него замерла в кружевной пеленке фарфоровая фигурка младенца-Христа. Демон Оробас, в эти моменты – самое обожаемое существо во всем Сан-Домини и, возможно, в целом Аду, поднял правую руку и осенял толпу крестом, снова и снова. Он был демоном, и все происходящее – не более чем представлением во имя его тщеславия, и все же они тянули руки, и целовали края его одежд, и глаза, людские и звериные, отчего-то наполнялись слезами, словно каждый вспоминал Землю, свою жизнь, и Рождество, и младенца в библейских яслях. Милость и кощунство мешается перед огромным черным собором – это осквернение веры? Или подлинная вера? Или что-то третье, не имеющее названия?
Демон медленно опустил правую руку, и на мгновения показалось, будто он и впрямь держит живого младенца, опускает голову словно в молитве или в молитве? Или в этот момент он просто слагает свои чары, чтобы, медленно подняв взгляд, зажечь в небе тысячи маленьких огоньков, похожих на земные звезды? Их так недостает на этом небе…
Оробас сошел с носилок и процессия скрылась в сумрачно, едва освещенных недрах собора. Медленно закрылись основные ворота – чтобы попасть внутрь в эту ночь, желающие записывались за добрые полгода. Епископ Кароль вышел на помост у ворот, чтобы вести службу для людей на площади, помощник и церковный советник Оробаса и его частый собеседник. Почти смирился со своим пребыванием здесь, только семь лет назад, в день известия о своей канонизации, надолго погрузился в молчание. «Как будто ты первый святой в Аду» – заметил тогда демон Каруджи, но, редкий случай, он ошибался, дело было не в этом. Смятение с тех пор успело улечься, затихнуть и вот он, разжалованный папа, умерший человек, грешник в Аду, в епископской мантии снова выходит и видит людей. И счастлив с ними.
А там, внутри, Оробас прошел через свой собор и возложил куколку-Иисуса в игрушечные ясли, где с одной стороны застыли мужчина и женщина, а с другой – козел и бык, и не помешал бы еще к ним и дракон, и кабан, и олень с вороном, но это уже отступление от традиции, а традиции важны.
– Младенец родился нам, и все мы когда-нибудь будем прощены, – медленно произнес он, и его голос достал в каждый уголок огромного зала.
Дежурное ежегодное чудо – в полутемном соборе загорелись лампы, живое золотистое пламя появилось одновременно со всех сторон, и его всем будет достаточно в эту ночь. В Оморре, где нет иного огня, кроме дозволенного, в этот момент во всех ее храмах люди не могли сдержать тот самый, наивный, глупый, но все же восторженный вздох.
В конце концов, это праздник.
такие дела.
Он бы мог не идти сам — разве генералы идут лично в битву? как спрашивали его друзья, призывая быть осмотрительнее, впрочем, не особенно упорствуя. Он мог бы не идти, он верил выбранным среди своих людям на все сто и не сомневался, что в его присутствии нет никакой необходимости. Но его гнала вперед жажда испытать — снова и снова — то самое чувство, которое он мог испытать, только находясь в сердцевине событий. То чувство, когда сходятся на вершине линии, тщательно сплетаемые в течении долгих дней, когда земля под ногами уходит и кажется ничтожной, когда небо опрокидывается над головой безмерным куполом, и все прочее становится неважным, важно только одно. Он идет, и ведет за собой на веревочке смерть, как последний довод истины, он заставит взглянуть ей в лицо и услышать ее дыхание, он заставит почувствовать, как рвется тонкая завеса морока, называемая "этим миром", под острыми ударами безжалостной правды. Пусть ненадолго, пусть не первый и не последний раз.
Он сливается с толпой — о, это чувство тоже знакомо! На площади не видит почти никого и ничего, только одно лицо заставляет на секуду отвлечься и задержать внимание. Папа Римский? Тот, которого он помнил еще при жизни, и он здесь? Судорога отвращения пробегает в его душе. Нет, ему дела нет до иерархов враждебной христианской церкви, все они по сути кафиры и крестоносцы, и все же, то, что этот иерарх разделяет службу с демоном, еще сильнее укрепляет Атту в собственной правоте.
Он проходит контроль — всего лишь одна проверка печати приглашенного во внутрь храма гостя. И больше ничего. Ни рамки с металлодетектором, ни сканера, ни осмотра вещей и обхлопывания карманов. Что ж, так оно и бывает — самые блистательные акции осуществляются именно потому, что ты быстрее находишь дырку, чем ее закрывают те, кто с тобой борется. Как ему говорили пришедшие позже, после его смерти кабины пилотов в самолетах стали запирать изнутри, право, странно, что никто не догадался об этом раньше. Что же будет в Сан-Домини после этого дня?
Он не видит со своего места, но знает: в это мгновение с боковых входов его люди, одетые как простые рабочие, заносят баллоны, обвитые парчовой тканью или еловыми лапками — просто какой-то элемент декора, который вдруг понадобилось занести во время службы, может быть, забыли поставить раньше? Взгляды всех устремлены на фигуру в паланкине в роскошных одеждах и папской короне, с куклой, вдвойне кощунственной здесь, фигуру, возлагающую эту куклу в ясли у алтаря, эти взгляды не могут вместить в себя движение на периферии, когда кто-то заходит по лесенке на кафедру для проповеди, и поднимает, как пародию на куклу-Христа, запелёнатый баллон над головой.
— Мы все когда-нибудь будем прощены.
— Не все.
Словно в ответ на этот его шепот, с кафедры доносится пронзительный, искаженный крик "Аллаху акбар!", раздирающий сладкую красоту этого пространства, и, повинуясь этому крику, шесть фигур по углам всего собора слаженными, хорошо отрепетированными движениями достают из сумок противогазы — страшные маски с хоботами и круглыми стеклянными пустыми глазами, и летит, разбитый о позолоченную вязь перил баллон, не взрываясь, но разлетаясь не естественными осколками.
Запах серы и тухлых яиц, этот запах, традиционно на земле ассоциируемый с адом, должен бы им напомнить, где они находятся — если только они успеют почувствовать его, прежде чем газ залепит нос и рот и отобьет обоняние.
Отредактировано Mohamed Atta (2024-06-03 22:30:10)
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
Город полон чудовищ. Демонические чудовища, способные сдернуть шкуру с небес, способные содрогнуть адскую твердь до самой бездны одним своим пожеланием, извращенные твари, ведающие тысячи способов запытать, убить, уничтожить. Их стало слишком много, каждый первый, кто проезжает по улицам в нарядном паланкине, такой. От демонической геральдики рябит в глазах – фигуры стервятников, гиен, змей, монеты и луны, черви и черепа, оскверненные кресты, пыточные инструменты. И давно уже настал момент, когда они стали беспечными, они все.
Настало время, когда так вышло, что власть имущие оказались и самыми могущественными монстрами на этих улицах. Они верят в свое могущество так же самозабвенно, как предаются грехам.
Оттого в декабрьский день две тысячи двадцатого года от рождества Христова настало новое время, время открытий. И раньше человек поднимал руку на демона, но это было, по меньшей мере, смешно. Когда весь огромный зал собора всколыхнулся в панике, паломники кинулись к выходу, а потом начали умирать, это выглядело как объявление войны. Разумеется, обо всем этом у принца Оробаса будет время подумать после, когда он узнает подробности. В тот момент он не знал ничего.
Был крохотный момент, когда чутье подсказало, что что-то не так. Посторонний звук, предчувствие. Крик фанатика прояснил все. Еще раньше, чем долетел и разорвался на полу баллон, золотые и белые папские одеяния опустели и стали проваливаться нарядной грудой, тройная корона глухо взякнула в кружевах и шитье, перчатка с так и надетым на нее золотым перстнем упала под ноги скульптуры быка перед рождественскими яслями. Оробас в три шага превратил себя в готовый к сражению инструмент, разобрал реальность на формулы и приказал времени течь медленней, и, вместо того, чтобы развернуться своей конской тушей, просто переписал, исчез и снова появился мордой к кафедре. Что-то, наконец, упало. Он видел, как движется весь зал, как медленый прибой толпа ударяет в двери и тихая ярость от нападения в такой момент заставляла прижимать уши. Потом его будто окатило волной, но другой природы – удушливая вонь перехватила глотку, и он снова не понял, что происходит. Приученный к противостоянию с демонами, Оробас принял запах за след чар и искал их, искал, теряя драгоценное время, искал врага и человек, швырнувший баллон, думал, что пытается убежать, а на самом деле уже был поднят над полом и извивался, разевал рот в гулком замедленном крике. Просто человек.
Оробас отвлекся от него, обернулся в зал. Он сделал несколько шагов, прежде, чем начали подламываться копыта – не понимал, почему, все еще искал причину, готов был наизнанку вывернуть все это пространство, но кругом уже не было никого живого. Почти никого. И он сам, наконец, понял, что задыхается и давится пеной, и со следующим шагом уже не удержался на ногах и с грохотом завалился на мраморный пол.
Знаки и символы начали меркнуть вместе со зрением, время, более не растянутое гаснущей волей, снова пошло быстрее и пролилось на прамор кровавыми брызгами из ноздрей и пасти. Демон почти обо всем догадался, и, вскинув голову и шею, постарался приподняться и увидеть тех, кто остался живыми и кто точно был виновен, но уже не смог. Сосредоточение ушло и оказалось, что ему так плохо, как не было еще никогда и что он, похоже, даже умирает. В бешенстве Оробас еще раз попытался встать, но только завалился на другой бок.
такие дела.
Как только люди (демоны, химеры... кто там был на этой торжественной службе?) поняли, что их травят — ринулись, как цунами, к центральным дверям, но открыть их уже не смогли — огромные украшенные резьбой и позолотой створки были заперты — чтобы никто из лишних, не доставших приглашение, не мог попасть на самое главное представление. Теперь этот замок, оградивших избранных от прочих смертных, надежно перерезал им выход к спасению. Впрочем, спасению ли? Кто-то, возможно, и успел бы выскочить до того, как вдохнул смертельную дозу яда. Кто-то, скорее всего, и успел — через боковые двери, вылетел, широко зевая раскрытым ртом, моргая обожженными глазами, не в силах понять, что это было и что теперь делать, к кому бросаться за помощью и что кричать. Но у большинства, навалившихся друг на друга массой тел, шансов не было. Атта нырнул в выемку возле исповедальни, чтобы бьющаяся в судорогах толпа не помяла его.
Смерть.
Можно ли привыкнуть к смерти? К своей, например. Абсурдный вопрос для земли, не такой уж абсурдный для ада. Ты знаешь уже наверняка, что это не "насовсем", что тотчас, как только угаснет сознание, возрождальня выплюнет тебя из назад в мир сознающих, словно ты просто провалился в сон, а потом проснулся — или нет? Смерти продолжают боятся в аду, даже несмотря на знания о перерождении, почему? По привычке ли, вмонтированной в самую природу человека или потому, что есть чего боятся?
Можно ли привыкнуть к чужой смерти, которая происходит на твоих глазах?
К убийству, которое происходит на твоих глазах, и автор которого — ты сам?
Что ты чувствуешь, когда видишь, как падает прямо перед тобой на каменный пол женщина, ее ноги и руки дергаются, пена и рвота на искаженном от судороги лице? "Ничего страшного, потерпи, скоро все кончится, ты уснешь".
Заостри свой нож, чтобы жертвенное животное не мучилось при заклании.
Такова воля Аллаха.
Тела оседают на пол, Атта выскакивает, не дожидаясь, пока они перестанут шевелиться, устремляется, переступая через чьи-то ноги, туловища и головы, вперед, к алтарю, где скинув свою фальшивую личину первосвященника христиан, хрипит и дергает длинными ногами белый демон-конь. Тот самый конь, которого Атта видел уже в Ар-аль-Ашени.
Через ограду проповеднической кафедры свешивается тело Абделя — Атта не видел, что именно с ним случилось, но, чтобы не случилось, каждый из них был готов к такому исходу. "Встретим тебя при следующем возрождении у реки, шахид", — мысленно говорит ему Атта и ищет глазами других сторонников, которые выходят в центр из-за углов.
— Слава Аллаху, мы преуспели! Такбир!
— Аллаху акбар!
Они хватают и опрокидывают тяжелые светильники — колдовской огонь гаснет, как и предсказывалось, а жаль, жаль, до последнего тлела надежда, что удастся поджечь это мерзкое сооружение тем же огнем, что наколдовал тут демон, но нет, он слишком продуманно колдовал.
Но разве у них не было пяти лет нато, чтобы хакнуть демонские правила? Пусть не пожар, а другой взрыв, но у них получился, хотя им говорили, что ничего такого не получится в Оморре — те, для кого все огни, искры, светильники и взрывы на одно лицо. И самодельная граната, из материалов, которые не придет в голову использовать никакому демону, витающему головой в эмпиреях магических материй, летит, выпущенная умелой рукой Саида, развернувшегося, как атлет на состязании, посреди нефа — прямо в розу собора, тончайшее кружево разноцветного стекла, и роза взрывается на тысячи осколков, и опадает вниз крошевом и пылью, оставляя зияющую пустоту.
Они режут ножами драпировочные ткани, опрокидывают и заливают черной краской статуи, раскидывают и топчут цветы. Кукла младенца Иисуса летит через неф от одной глядящей плошками противогаза фигуры к другой, скоро она остается без ручек, голова, оторванная от тельца, закатывается под живот трупу разряженного толстяка.
Атта слушает, как хрипит конь. Эти демоны... они превращают свои тела в пепел, когда умирают. Он обещал, уходя из Ар-аль-Ашени, протащить тушу коня по улицам города? Не выйдет, не только потому, что тушу эту тащить слишком тяжело, с этим-то справились бы как раз, но самое главное, если демона убить до конца — у Атты будет только горстка невыразительного пепла. Если не убить, то пока его, полумертвого, дотащишь, он еще очнется и сам убьет их всех.
Но они пойдут другим путем. Он смотрит на копыто, то самое, которое Оробас прикладывал к позорному свитку. Он достает черный нож. Крепко вцепившись в ногу между копытом и суставом — она не дергается уже, демон выглядит совсем как мертвый — разрезает острым лезвием кожу и выкручивает сустав.
Поднимает трофей на головой и кричит своим спутникам:
— Уходим!
Дорогого стоило бы сейчас распахнуть центральные двери и явится перед взволнованной, уже догадавшейся о неладном толпе снаружи с копытом в одной руке, ножом в другой и в окровавленным белом плаще, но может ли он рисковать, тратят время на то, чтоб открыть двери, и положиться на то, что среди испуганной толпы не найдется никого, кто опомнится и решит его задержать?
Лучше приберечь представления для другого места.
Тем более совсем незамеченными они не остаются, когда выскальзывают через боковой вход, там уже шумит и толчется народ, окружающий успевших улизнуть отравленных. Народ отшатывается, когда пятеро джихадистов, в противогазах и белых плащах с капюшонами, кто в краске, кто в крови, стремительным шагов пересекают площадь и садятся в невзрачного вида бесомобиль.
Все это слишком быстро для людей, их не готовили к такому, да что они могли сделать то?
Бесомобиль срывается с места и исчезает в недрах праздничного города.
Отредактировано Mohamed Atta (2024-06-09 00:19:44)
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
Голоса слышались не так, как обычно, это был шелест и нечеткое бульканье, шорох мягких туфель по мрамору, шепотки, в которых не различить ни слова. Облик… это потому что он заснул не в своем обычном теле и без чутких звериных ушей не понимает, что происходит вокруг. А еще он ничего не видел. Шевельнувшись, Оробас понял, что на лице сложенная в несколько слоев ткань. Кажется, в прошлое пробуждение свет резал ему глаза и боль сохранилась до сих пор, боли было вдоволь, и она блуждала по всему телу, тыкалась в виски, и чем-то тяжелым осела в груди, но самым неприятным последствием пульсировала в левой руке, где-то на уровне запястья, даже не боль, а что-то странное, как будто что-то сдавило кисть и она онемела. Он пытался понять, что случилось, но не мог вспомнить.
В комнате кто-то был. Много. Наощупь он узнал вышитое покрывало на своей постели, но теперь место, где он отдыхал или предавался разнузданному разврату, сделалось пристанищем тяжелобольного и кругом толпилась его настороженная свита, старательно выдавливая скорбное сочувствие и так же тщательно пряча любопытство пополам со злорадством: не подох? А почему? А когда подохнет?
Суки.
Оробас услышал, как едва слышно вздохнула дверь. Кто-то выбежал в коридор, доносить. Мелкий шпион отправил бы беса, бесшумного паука, или летучую мышь, которая бы сумела выползти в окно и скользнуть прочь. Если докладывать побежали лично, значит, кому-то из советников и он сейчас придет.
Он не хотел. Хотел дышать, но это получалось с трудом. Хотел, чтобы его оставили в покое, даже не умереть, наконец, а просто чтобы никто не приходил.
– Прошу вашего внимания, лорд Оробас.
Этот голос, который меньше всего хотелось сейчас услышать, был рядом уже долгие века. Он медленно повернул голову, показывая, что да, аудиенция дозволена и первый советник может приступить к выполнению своих обязанностей.
– Все вон отсюда, – голос распорядился полушепотом, который был слышен во всех углах спальни. – Хорхе, иди вниз.
Почему? Почему вниз? Оробас искренне удивился, потому что ему казалось, что он просто услышит доклад и сможет распорядиться о том, чтобы его слуга умелой рукой помог ему переродиться. Тогда все бы закончилось – и обморочная тошная боль, и все это унижение.
Тем временем шелеста стало больше, в спальне сделалось шумно от всех, кто спешил выполнить распоряжение. Вышли. Закрыли дверь. Он услышал знакомый щелчок – кто-то повернул выключатель, погасил лампы. Через несколько секунд тишины с лица сдернули ткань.
– Хочешь услышать, что было после того, как ты обосрался, лорд Оробас?
Из-под украшенного золотым шитьем капюшона уставились знакомые черные глаза, целиком черные, без зрачка и радужки. Так могла бы смотреть в вечном укоре сама совесть… интересно, существует ли специальный бог совести? Если да, то его следует ваять с советника, и будет он неприметным, высоким и худым демоном, отравляющим чужие жизни, с серо-стальной шкурой и длинными цепкими пальцами с острыми когтями. Везде и до каждого доберется, даже до лежащих при смерти.
– Поставь мне кресло ближе, – Каруджи, так и стоящий над ним, кивнул назад и Оробас вяло дал знак невидимым слугам, охотно вытащившим из дальнего угла массивное кресло с резными нимфами, поддерживающими шелковые подлокотники.
Каруджи порылся в стопке документов, которую принес с собой, что-то переложил, потом устроился в кресле так, как он это часто делал – лежа и поперек.
От него пахло кровью. Маленькая злорадная деталь, у советника тоже есть свои слабости, тоже есть гнусный порок, которого принято стыдиться как увечья, из-за которого тот не хочет стоять на ногах и ищет, как прислониться виском к шелковой обивке. Кто-то ищет спасения в пьянстве, кто-то в разврате, кто-то в убийствах. Каруджи резал себя и бездна знает что еще с собой делал в каком-то совершенно безумном поиске одного ему понятного наслаждения. Уже давно, дольше, чем они были знакомы. Сегодня снова.
И делал вид, будто не понимает значения взгляда, который Оробас бросил перед тем, как снова прикрыть глаза – да, снова, и не твое это собачье дело.
– Знаешь, сколько их было? – Каруджи устроил разномастные листы на коленях и поднял первый: – Шестеро. Ты не смог убить шесть человек.
– Я не успел понять, что происходит, – не открывая глаз, прошептал Оробас. Говорить тоже было сложно, да и не особенно хотелось. Фраза гнусным образом походила на оправдание, и, похоже, это оно и было.
– Они точно так же травили друг друга в обе мировых войны в двадцатом веке. Мог бы снизойти хотя бы до истории? Нет? Некогда? – снисходительно поинтересовался Каруджи, опустил первый отчет на ковер перед креслом, развернул следующий: – В соборе умерли все, кроме тебя – ущерб репутации плохо поддается счету. Я распорядился выплатить компенсации пострадавшим, это три тысячи восемьсот дукатов. Уничтожено утвари и отделки примерно на восемьдесят тысяч дукатов… кстати, они чем-то ухитрились разбить витражную розу.
Роза собора, произведение искусства – это было действительно очень и очень неприятно, но Оробас не подал вида. Все можно будет восстановить. Потом.
– Что сделано? – спросил он, надеясь отвлечь Каруджи от перечисления ущерба.
– До черта всего сделано, пока ты тут двое суток блевал, – тот отозвался с ехидной готовностью, полистал, потом как будто отложил заготовленные донесения: – Утром я выступил с обращением, мы согласовали газеты, в обед Попугай в твоем облике пошел в соборе петь эти дурацкие католические проповеди, в этот раз мы выставили у входов охрану. И знаешь что? Туда уже пытались пролезть шестерки нашего любимого короля. Я распорядился отрезать им головы. Тот тупица, которого ты назначил начальником тайной полиции, сейчас пытается найти подходящих куколок для показательной казни, не представляю, как он справится, но мне нужно, чтобы ты на казни присутствовал лично. Если кто-то решит, что шестеро полоумных фанатиков как-то ухитрились тебя уничтожить, я не представляю, как мы сможем сохранить лицо.
– Фанатики? Это База из Флегетона, я успел увидеть память одного из них, – это он сейчас вспомнил точно, вспомнил, как разворачивалась как горящий свиток чужая жизнь, пока он пытался понять, что происходит.
– Я знаю, все исламисты фанатики. Кстати, он, здесь, внизу. Я его допросил, но, может быть, у тебя будут еще вопросы… да, об исламистах, у нас через пять дней истекает договор с Ар-аль-Ашени. Ты не успеешь вернуться, а это, блядь, важно, Оробас, – судя по голосу, он повернул голову: – Мы с Попугаем все составили… смотри.
Оробас приоткрыл глаза, когда невидимые слуги поднесли украшенный свиток ближе, чуть поморщился:
– Не называй его попугаем.
– А кто он еще? – Каруджи с безразличием пожал плечами, на мнение и репутацию великого пенитенциария Оморры ему было, по большему счету, плевать. – Сам соберу свиту и отправлюсь, пусть все думают, что твое присутствие нужно в Сан-Домини. Поставь свою печать.
Оробас с сомнением посмотрел в конец документа, где было оставлено пустое место. Тревожить тупо пульсирующую руку, не просто не хотелось, а было страшно. Он посмотрел на нее, перемотанную во много слоев бинтами, посмотрел под бинты – руки, по сути, не было. Вместо нее осталась нелепая культя, но именно так он ставил печать, именно так он всегда, всю свою осознанную жизнь воплощал свой сигиль – движением левой руки, теперь отсутствующей.
Он осторожно поднял ее с подложенной под локоть бархатной подушечки и попробовал потянуться заклятьем, как это обычно делал. Неожиданная, подлая боль свирепо выкрутила несуществующие пальцы и прострелила до самого локтя. Несколько мгновений все ниже обрубка показалось опущенным в кипяток. Оробас, всхлипнув, перекатился по постели, стискивая запястье уцелевшей кистью.
Советник подождал, пока он продышится, потом снисходительно поинтересовался из-за бумаг:
– Я не понял, тебе башку отрезали или всего лишь руку?
– Мне больно, Каруджи.
– Из всех проблем, которые я сейчас вынужден решать, то, что тебе больно, меня занимает меньше всего.
– Да пошел ты...
Тот выбрал и отложил на ковер еще несколько маловажных, по его мнению, документов, терпеливо вздохнул, потом поднялся и подошел. Поискал в поясной сумке украшенный портсигар и вытащил из тайного отделения стеклянный шприц с желтоватой жижей внутри. Оробас молча подчинился, позволив стянуть до плеча ворот сорочки и только вдрогнул от неожиданности, когда Каруджи небрежно всадил иглу ему в плечо. Место онемело почти сразу, и немота пошла вверх и вниз, особенно вниз, где требовалась сильнее всего.
Он подумал, как забавно то, что у свихнувшегося любителя боли при себе зачем-то есть анестетики, но Каруджи не дал отвлечься, потряс договором:
– Поставь гребаную печать, Оробас!
Он знал, что даже не будет пытаться.
– Я не могу. Я не ты…
Договор полетел на ковер вслед за отвергнутыми отчетами. Каруджи стоял, глядя с каким-то странным недоумением. Пытался понять и не мог.
– Ну так и я не ты, – он чуть развел руками и прошипел: – Безродное дерьмо не может править доменом – забыл?
– Пошел вон.
– Ты сам расшатываешь свою власть, заигрываешься своей тупостью и своими капризами. И если мы все потеряем, что у нас есть, это будет твоя вина.
Оробас осторожно устроил изувеченную руку и с беззвучной злобой смотрел, как Каруджи собирает свои документы. Слушал не потому что с чем-то был согласен, а просто, чтобы Каруджи, наконец, высказал свои идиотские претензии, наконеч, они закончились и он прошептал, снова прикрыв глаза:
– Вон отсюда, или я тебя вышвырну. Делай то, что тебе поручено и не думай о себе слишком много, советник.
– Разумеется, Оробас. Хоть кто-то здесь делает свое дело.
Он промолчал. Хотелось действительно выкинуть Каруджи в окно. Или размазать об стену за дверью, переломать ему все кости. Но еще больше хотелось, чтобы его, наконец, оставили в покое. И спать.
такие дела.
30 декабря 2020 г., центр Ар-аль-Ашени
Город ждал особый день. В этом году — по-другому, чем в предыдущие пять лет. В этом году — так, как не ждал еще никогда. Город украсили к празднику, как обычно, убогие гирлянды и ленты, жители, как обычно, подготовили свои лучшие наряды. Но напряжение, которое витало в воздухе, было далеко от обычного. Как будто вместо прежней затхлости и неотвратимости жары пустыни в сухой сезон в воздухе чувствовалось приближение грозы. Как будто тучи клубились и сгущались над горизонтом, в воздухе потрескивало и громыхало, а народ смотрел на небо и спрашивал друг друга: пройдет мимо или пронесется шквалом, затопив город благословенным, но разрушающим дождем? Прольется? — кто со страхом, кто с надеждой.
Слухи, которые принесли вездесущие вестники слухов из столицы, были невероятными, непостижимыми, противоречащими всему, что они знали раньше. Сколько было в тех слухах правды? Могли ли они быть правдой?
Люди переглядывались друг с другом, боясь обсуждать слухи где-то громче, чем в один на один с самыми близкиими людьми, стараясь разглядеть во взгляде другого, что он чувствует и на что надеется.
Шейх приказал готовиться к церемонии, как обычно. "Мне передали официальное послание, церемония пройдет, как положено. Слухи о том... ээ... варварском акте в соборе... изрядно преувеличены, да, некоторые прихожане и некоторое... убранство пострадали. Но смешно было бы думать, что оно могло как-то повлиять на способность нашего владыке прибыть на церемонию, чей порядок уходит в глубь веков!"
И гроза пришла. Вместо возникающей из магической арки демонической процессии из бескрайних пустошей в клубах пыли принеслась кавалькада всадников на гнедых и вороных конях, в черных и в белых плащах, с лицами, закрытыми платками. Над их головами развевались на ветру черные флаги с арабской вязью белым, понятные без перевода вавилонской башни каждому мусульманину: "Нет Бога, кроме Аллаха". Их было человек двадцать, они поскакали по улицам Ар-аль-Ашени к центральной площади, крича: "Эй, мусульмане! жители города! Выходите из своих домов!" — и солнце сверкало на их ножах и мечах.
Впереди всей процессии ехал Атта, в том самом белом, заляпанном кровью Оробаса, плаще, с ножом в руке и конским копытом на веревочке. За ним ехали четверо уцелевших исполнителей теракта, тоже в белом.
На площади перед ратушей они остановили коней, разбрелись неровным полукругом. Атта заметил, как со второго этажа из окна выглянул шейх и его свита — и мог поклясться, хоть на деле скорее додумал, чем увидел, что его лицо исказила гримаса страха и изумления.
— Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного! Люди Аль-ар-Ашени! — Атта кричал во всю мощь своих легких, подозревая, что к концу выступления сорвет голос, но какое это могло иметь значение? Сейчас главное, чтоб его услышало как можно больше народу. — Вы ждете церемонию печати? Но церемонии не будет! Смотрите: вот копыто того шайтана, что правил вами! Я убил его и отрезал копыто этим ножом, — положим, не совсем убил, но большая ли разница? Речи нужно произносить кратко и энергично, не распыляясь на незначительные подробности.
Толпа, стекающаяся на площадь, гудела и переминалась с ноги на ногу. Взгляды блуждали со всадников на лошадях на дальней конец улицы. Люди оглядывались, думая: вот-вот откроется огненный портал и появятся демоны, и сожрут этих безумцев. Атта, по правде сказать, тоже ожидал, что демоны могут появиться, хоть Оробас сам (кто ж его знает, вдруг он способен отрастить копыт за эти пару дней? Или даже без копыта вполне устрашающ?), хоть кто-то из его подручных. И тогда, очевидно, придется, ну, стратегически отступать — то есть драпать со всех ног, теряя кого-то из своих по пути.
Но Атта знал: если он успеет договорить сейчас, то, даже если потом будет спасаться бегством, люди уже не будут смотреть на демоническую церемонию теми же глазами. Люди будут спрашивать себя: что им подсовывают и что им показывают? Может быть, прав был всадник с отрезанным копытом, а не явившийся после демон, и печать поддельная? И кого они видят перед собой?
Но мгновения капали, а демоны не являлись.
— Аллах сказал: "знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех", так просите прощения за свой грех, грех многобожия и поклонения идолам, и Аллах простит вас, он Милостивый и Милосердный!
Конь под ним фыркал и гарцевал. "На конях, — сказал Атта своим сподвижникам, принимая партию отличных арабских скакунов для этой операции, — нужно ездить верхом, а не поклоняться им и целовать копыта".
— А тот, кто не покается и будет упорствовать, того Аллах отправит в Геену огненную, подлинную, из которой нет спасения! Люди! Убивайте тех, кто объявляет войну истинному Богу и Его верным! Тех, кто поклоняется идолам, кто убивает верных, грабит, насилует...
Окна ратуши опустели. Часть охраны шейха, по всей видимости, сбежала вместе с ним и советниками, а часть стояла тут же на площади, опустив копья, слушала, кивая головой согласно речам Атты.
— Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк его! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк его! Такбир!
— Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! — его спутники кричали во весь голос, а среди толпы некоторые повторяли чуть ли не шепотом, но Атта видел блеск их глаз и шевеление губ.
Демоны так и не явились. Всадники под черными флагами ускакали, бросив на прощание копыто к дверям ратуши, обитатели которой покинули ее через черный ход.
В одной из маленьких деревенек посреди полупустынного лесочка из акаций и пальм Атта и его спутники сдали лошадей на руки подпольному стороннику, а сами разделились на группы по три-четыре человека и разбрелись по Оморре кто куда. Атта планировал на следующий день добраться до северных границ Зимимайи и уже на той стороне взять кайрос-ладью до Флегетона. Кайрос-порталы контролировались бдительнее, чем что-либо еще, но связь между доменами была такая слабая, что вряд ли хоть какая-то тревога успела за эти дни просочиться из Оморры, где центр, а теперь и Ар-аль-Ашени, стояли на ушах, в Зимимайю, которой на перипетии соседей было начхать.
А пока можно было переночевать в пустыне. Вместе с Саидом, тем самым, который разбил розу, они поставили небольшую песочную палатку под деревом, сквозь ветви которого просвечивали ночные сумерки. Атта успел заварить чай в небольшом чайник на углях, предусмотрительно позаимствованных в деревне, выпить его, расстелить покрывало внутри палатки, забраться внутрь — и отключился сразу, как только голова коснулась поверхности, заснув сном праведника после тяжких и честных трудов. Саид остался караулить у входа.
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
…Для казней была обустроена специальная площадь перед городской тюрьмой. То есть, обычно на длинном каменном помосте, выдающемся далеко вперед, выступали уличные актеры, а в крепежах вдоль него торчали фонарные столбы, но теперь актеры убрались подальше, а столбы заменили ржавые металлические кресты. Сколько ни крась, краска всегда обгорает. Он, присвоивший огонь, огнем показывал свою волю, огнем и казнил.
Сегодня Оробас не пришел, как обычно, в паланкине или в своем истинном облике через всю площадь, привычно со свитой, раздавая яблоки, конфеты и серебро, а появился на балконе тюрьмы в сполохе гневного пламени, в алой мантии. Поднял руку, приветствуя людей, и приветствие медленно, словно нехотя стало крестным знамением. Обычно он молился перед казнями, настолько напоказ, что никто из присутствующих и помыслить не мог, что демон не просто не одной с ними веры, но и в принципе отрицает религию. И все напоказ – буффонада, лицедейство, игра, непрекращающийся карнавал. Меняются только декорации.
Но сегодня, весь в алом, владыка домена показался издали и сел на свой трон, среди ожидавшей его свиты. И все равно они приветствовали его. Люди...
Справа и слева высятся свирепые бесы-гвардейцы, сегодня также в алых плащах. У их ног хмуро расселись советники – сказать по правде, у каждого достаточно и более интересных и полезных занятий, но нужно присутствовать. Великий пенитенциарий дисциплинированно соблюл цвета – черный костюм, алая рубашка, графитовый галстук, как будто только что вышел из своего кабинета и решил поприсутствовать на сожжении заживо. Верховный аудитор домена сидит рядом, касается худым плечом и поправляет коленями полупрозрачный красный подол. С готовностью смеется шутке. Прячет за спиной навечно скованные руки. На своем месте слева Каруджи, которому на цвета свиты всегда было наплевать, сидит в своем сером балахоне и у локтя торчит рукоять меча – нарушение не только этикета, но и протокола безопасности, но тот, кто этот самый протокол должен был охранять, рядом с ним мрачно слушает, как советник, не изменяя выражения лица, в очередной раз шипит, что сошлет его в самую далекую провинцию счетоводом.
… – А теперь иди и произноси свою тупую речь. И постарайся, иначе я тебе и второй глаз выбью, – напуствовал Каруджи, когда иссякли зловещие обещания.
Дортон поправил щегольскую черную повязку на лице и отправился в дальний конец помоста, к толпе. Его тоже приветствуют, но без особого энтузиазма, люди собрались посмотреть на зрелищную казнь, а скучные подводки их не особенно интересуют. Их едва ли бы даже заинтересовал тот факт, что виновных на помосте всего один – человек, не успевший скрыться с подельниками, которого первым водружали на один из крестов, все прочие, еще пятеро насмерть перепуганных исламистов из провинции – случайные лица. И те, кто собрались на балконе также мало интересуются степенью вины, они знают, но собрались исключительно для зрелища.
Беспокоясь о зрелище, Каруджи обернулся, но Оробас не подавал никаких признаков слабости или нетерпения. Молча смотрел поверх толпы, поймал взгляд, с раздражением поджал губы – мол, не время и не место переглядываться. И был прав.
После того, как запылало пламя, но еще до первых криков он встал, осторожно поджав левый локоть, дал знак свите, ушли. Это они придумали еще давно – милосердный владыка не упивается страданиями и не досиживает казни до конца. Кто знал Оробаса, мог бы живот надорвать со смеху, все прочие верили. Пятеро переродятся в случайном месте Ада, и им будет запрещено пересекать границу Оморры, а вот шестой вернется прямиком в подвалы Палаццо-дель-Эрезия и вот там нахлебается столько страданий, сколько сможет уместить человеческое тело. Но перед этим к нему должны присоединиться его настоящие подельники.
– Ну и когда остальные будут, Дортон?
…Он привел их прямо в свои покои, где тяжело рухнул в кресло, пока невидимые слуги старались раздеть своего хозяина так, чтобы не причинить еще больше боли. От культи уже откровенно несло гноем и смертью. Каруджи сел рядом, отодвинул от себя вазу с дурацким букетом из белых роз, вместо нее грохнул об мраморную крышку столика ножнами. Куачи покосился на кровать, видную через широкий проем, но решил устроиться поближе к остальным и довольствовался диваном напротив, завалился, раскидав туфли по ковру:
– Мы тебя предупреждали о необходимости ре-фор-ми-ро-ва-ни-я, почему ты такой тупой? Средневековье закончилось, Дортон. И давно. Иногда мне кажется, что лучше взять в свиту человека с нужной специальностью.
– Нонсенс, дорогой коллега, – Олоши аккуратно поставил туфли одну к другой и сел, пододвинув ноги Куачи. – Статус должности несовместим со статусом человека, прости за каламбур.
Опальный Дортон в своих демонических черных доспехах так и остался стоять под четырьмя недоброжелательными взглядами, чужой и неуместный, как окровавленный топор посреди девичьего будуара.
– Мы напали на след в Ар-аль-Ашени, как и предполагалось…
– Гора родила мышь, – раздельно произнес Оробас, откинувшись на подушки и заслонив глаза здоровой рукой. – Каруджи, скажи ему.
– Что говорить, достаточно просто посмотреть, – буркнул тот, усмехаясь – догадается или нет?
– А куда? Я тоже хочу, – насмешливо фыркнул Куачи, извернулся на диване, тоже приготовившись смотреть.
– Сколько невидимых слуг ты видишь здесь, с нами?
Рыцарь-демон застыл на месте, догадка позорила его еще сильнее. Они умеют чуять хозяев, и части хозяев также, и привязаны к ним, и умеют выполнять простейшую волю. Бес-муха, незримый слуга, подносящий одежду и открывающий двери, опередил его в поиске.
– Найди мою девятую муху и достань того ублюдка, который мне отрезал копыто. Разберусь с ним, когда вернусь, – прошептал Оробас. – Убирайтесь по домам, а?
– А ужин? Давай, тебя отравим?
Он посмотрел из-под руки на Куачи. Тот безмятежно улыбнулся в ответ.
такие дела.
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
(Всеобщая декларация прав человека)
Из сна его выдернуло столкновение с твердой прохладной поверхностью, как будто одновременно и резкое, и мягкое — он не упал с высоты, не ударился, но поверхность возникла вдруг и почувствовалась всем телом, распростертым плашмя. "Надо просыпаться из этого сна," — подумал Атта, уверенный, что сейчас продерет глаза в своей палатке, но проснуться не смог. Точнее, наоборот: проснуться-то он проснулся, но палатка не вернулась, а поверхность — не исчезла. Еще больше, она обрела цвет: блекло-серый и форму: плоский прямоугольник, встречавшийся неподалеку от глаз с точно такой же твердой и серой поверхностью под прямым углом. Атта подорвался, сел, опираясь на руки. Серый бетонный пол. Серые бетонные стены. Серый бетонный потолок. Под потолком одной из стен окошко — не окошко, а так, квадратная прорезь, из которой сочится какой-то свет, явно чем-то приглушенный, но позволяющий рассмотреть все кругом. Атта развернулся в другую сторону. Все помещение метра два на полтора, не больше. Двери нет.
Первые мгновения сознание отчаянно сопротивлялось увиденному. "А сейчас я точно проснусь..."
"А можно, я проснусь??"
"А..."
Он встал, прошел два шага до стены, коснулся ее руками. Если это сон, то этот сон займет почетное место среди его снов по реалистичности. И беспощадности.
Чем дальше он слушал стук своего сердца и шум в ушах, тем меньше оставалось надежд просто проснуться.
"Кажется, приехали".
Не кажется.
"Но боже, как???"
Демоны, что ты хочешь. Ни малейшего шанса подготовиться, ни топота шагов, ни оклика часового, ни борьбы с надеждой на спасение, хоть и краткой. Ни-че-го. Вот секунду назад была палатка — вот секунду вперед бетонная коробка.
Он прошел еще два шага, обхватив голову руками, пытаясь унять выворачивающий нутро страх. Вот же как, он ведь знал, что такой исход возможен, он был к нему готов — думал, что готов.
Но ничего, ничего, ничего. Просто все случилось слишком быстро, и по-демонски, не по-людски. Скоро он совладает с собой.
Два метра на полтора и одинаковый шершавый бетон, сходящийся под прямыми углами. Свет, сочащийся сквозь прорезь под потолком, не меняется, сколько бы времени не прошло, а Атта надеялся, что это дырка в наружу и он сможет угадывать по движению света, когда день сменяется ночью. В какой-то момент ему начинает казаться, что это не прорезь, а лампа в стене, которая светит ровно и приглушенно. Он моргает и снова видит окно, а не лампу. Потом видит лампу опять. Потом опять окно.
Двери нет, и даже некуда смотреть, кроме как в стену, гадая, скоро ли за ним придут — появятся — чтобы подвергнуть пыткам. В том, что подвергнут, он не сомневался: после всего, что он учинил, дать ему просто посидеть в прохладном каменном мешке — смешная, невозможная снисходительность. Он старался останавливать себя, чтоб не уносится фантазиями на тему каким именно пыткам — зачем себя самостоятельно накручивать, доводя до исступления? Но мысли рвались вперед, дыхание перехватывало, виски ломило.
Он уже знал, что демоны могут переписывать место возрождения своих жертв так, чтобы после смерти ты возвращался прямо в их застенки.
Он вспоминал, как некоторые свежеобъявившиеся в аду муджахеды радовались, узнав, что здесь невозможно умереть насовсем, поэтому можно отправляться в суицидальные миссии сколько душа захочет, ориентируясь лишь на то, чтоб не истрепать личность слишком быстро и не превратиться в гадкую химеру. Наивные дети! Смерть насовсем — это прекрасно. Когда он садился за панель управления своего боинга, последнего в его жизни боинга, единственного, который он мог назвать "своим" — о чем он на самом деле мечтал, о рае или о том, чтоб умереть насовсем?
И здесь, между шестью серыми поверхностями и маленьким окошком, он снова и снова гнал от себя подступающий ледяной ужас реальности, в которой нет смерти насовсем, есть только бесконечная череда пробуждений в бесконечные муки, где ты будешь выть и просить о смерти, но тебе ее не дадут.
Он вставал и ходил кругами от стены к стене, останавливался, утомившись, опирался рукой на шершавый бетон. Садился на пол, прислоняясь к холодному бетону, смотрел в пустоту перед собой, обхватив руками голову, прикусывая губу. Снова вставал и ходил. Совсем изнемогнув, ложился на пол и засыпал — и просыпался от холода и голода и снова ходил кругами.
Где-то в промежутке между этими хождениями и остановками в камере появлялись кружка с водой и кусок хлеба и ведро, очевидно, чтоб было куда выводить остатки выпитого и съеденного из организма, и это был сигнал, что морозить его здесь собираются дольше, чем пару дней — а сколько, непонятно. Он пытался считать по количеству съеденного хлеба, прикинув, что в этом отеле трехразовое питание вряд ли будет, одноразовое скорее, но еще до конца первого десятка сбился со счета и бросил это дело. И хлеб появлялся нерегулярно, либо он терял чувство времени из-за того, что проваливался иногда в сон.
Он подумал, что мог бы читать свой намаз, но здесь было невозможно определить время для намаза, и направление тоже, и невозможно совершить омовение, да и неотступное ощущение, надуманное или реальное, что за ним наблюдают все время, сбивало настроя, и в целом, было как-то брезгливо — и он решил не молиться, посчитав, что греха в этом не будет из-за того, что нет условий для молитвы. Но иногда он повторял, про себя или шепотом или в голос слова молитвы и строки из Корана, просто чтоб отвлечься от мыслей и загрузить мозг.
Однажды он попробовал стучать в стены и орать. Нет, он был почти уверен, что в этом мешке отличная звукоизоляция и даже если его соратники сидят за полметра бетона от него, он не доорется до них (эх, роскошь земных тюрем — стучать и орать в батареи, идущие сквозь камеры сплошной линией), но это "почти" грызло сомнениями. Стоило попробовать просто на всякий случай, а то был бы он дурак, если бы просто не попробовал; но, как и ожидалось, ничего не произошло, он просто сорвал горло, и так раздраженное от холода.
От холода у него не только болело горло, но и ломило кости и болела голова.
Спасаться от холода было нечем, только ходить без конца, и голова начинала кружиться уже от хождения, ноги подкашивались и не хотели больше нести его тело, тогда он ложился на холодный пол, надеясь провалиться в сон хоть ненадолго, но чаще всего заснуть удавалось не с первой попытки, а только после нескольких раундов хождения и сидения и лежания, когда тело уже уставало так, что отрубалось, несмотря на то, что мерзло и ныло.
Однажды из стены вышел демон в черном балахоне с пустым серым овалом вместо лица, протянул к замершему Атте длинные паучьи пальцы и посадил на лицо муху. Атта ждал, с расширенными от ужаса глазами, что сейчас начнется. Но ничего не началось. Муха потопталась тонкими лапками на щеке, а через пару секунд безлицый снял ее и ушел в стену точно так же, как пришел. Оставив Атту гадать, что это было и зачем. Мухи. Да, он помнил, что любые мухи могут быть демонами и потому, когда они ехали с копытом с места операции, он следил, чтоб в машину не набилось мух — но либо пропустил, либо им это было ни к чему, и выследили его иначе.
Время слиплось комом. Атта мог сидеть у стены, думать какую-то застрявшую мысль, моргнуть, открыть глаза уже лежа — и не знать, прошло несколько часов или несколько дней. Он пил воду и грыз кусок хлеба.
И вот, однажды, из стены вышел демон с серым овалом вместо лица и в черном балахоне, схватил Атту и протащил сквозь бетон (тот только задержать дыхание успел, и вообще не понял, как это произошло) и бросил посреди другого зала, побольше. Разорвали и сдернули всю одежду вместе с нижним бельем, выкрутили руки и привязали к толстой балке.
"Ну все, начинается веселье".
Он понял, что его ждет, пока балку еще поднимали на стену, выкручивая плечи, растягивая тело. Пальцами ног он нащупал острую грань металлического штыря, торчащего из стены — единственной опоры.
Пять — четыре — три — два — один — погнали.
Скоро боль станет невыносимой, а потом станет еще невыносимее, а потом еще невыносимее.
"Невыносимое, это, Атта, то, что ты не можешь вынести, — сказал его внутренний голос, противный довольно. — А ты это все вынесешь, потому что деться тебе некуда. Так что давай, страдай. Ты знал, на что шел, в конце концов".
Знал он, ага.
При жизни ему повезло, он ни разу не был арестован и не пробовал пыток. В аду его и арестовывали с полдесятка раз, и просто били, и били подвесив за руки, и это все было, мягко скажем, не очень приятно — но там, в захолустных грязных жандармериях, было ясное осознание конечности этих неприятностей, что вот, придурки-полицейские побьют его немного, потом кинут в камеру, потом вынут из камеры и выпихнут на волю. Его задерживали из-за разной ерунды, к которой никто не относился серьезно.
Сейчас было совсем, совсем другим. И к нарастающей боли в выкрученных руках прибавлялась сверлящая мозг мысль: это только начало. Это только самое-самое начало, Атта, ты еще узнаешь, как дорого тебе обойдется это копытце, с таким триумфом проволоченное по пыльным улочкам города, напоминающего тебе о детстве.
"Я все равно не жалею, это был прекрасный момент".
Это только начало, действительно, не жалей — у тебя будет время пожалеть, очень-очень много времени пожалеть.
"Я не жалею".
Он переступает на цыпочках по штырю (металл взрезает кожу), пытается выгнуться как-то, чтоб сместить тяжесть с рук, но ничего не приносит облегчения, новая волна боли пронзает тело.
Зачем Аллах сотворил алкоголь таким приятным и запретил его пить, как жаловался шутливо веселый Абу Хурайра, нет, Атта, послушай, что значит "будь серьезнее", это очень серьезный вопрос!
Но Атта был прав, а Абу Хурайра — нет, зачем алкоголь приятен — это несерьезный вопрос.
Есть другой, куда более важный: зачем Аллах сотворил человека, способно испытать такие страдания, которые он не может вынести? Почему нельзя было остановиться где-нибудь за ступеньку до вот этой боли, а дальше положить предел способности человека испытывать более сильную?
"Нет, Атта, эта боль — совсем не то, что ты "не можешь вынести". Это ты еще можешь вынести, пока ты не орешь и не воешь, прося, чтоб они прекратили, обещая, что готов на лишь-бы-угодно-что, лишь бы они прекратили!"
Он то опускает голову, то откидывает назад, опираясь на пальцы, ни одно движение приносит облегчения, отсутствие движения не приносит облегчения.
Он шипит и ругается тихо себе под нос, "сын собаки", "дерьмо-дерьмо-дерьмо", "еби осла в жопу" и "еб твою мать", "тысяча хуев" и прочее, весь запас родных матюгов, хранящийся глубоко в памяти на самый крайний случай. Почему матюги помогают переносить боль — такая же загадка природы, как то, почему этой боли влезает в человека слишком много.
Помогают, впрочем, недолго. Ровно на пару секунд.
Но ты еще не орешь. Значит, ты можешь это вынести.
Дерьмо, какое ебучее дерьмо.
Боже дай мне сил.
Отредактировано Mohamed Atta (2024-06-15 13:15:38)
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
Сначала ничего не происходило. Тюремщики ушли, выключили свет – узкая полоса его пробивалась где-то в районе двери и все. Была только темнота и мука заключения в собственном теле. Тело, оказывается, может причинить столько неприятностей.
Прошел час.
Ругань сменилась чем-то невнятным. Наверное, пленнику казалось, что он все еще произносит какие-то слова, но звуки смазывались в стоны.
Прошло несколько часов.
Кровь оттекла от рук и ощущения стихли. Он впал в какую-то тусклую полуобморочную апатию, замолчал.
Прошло еще сколько-то времени. Дверь распахнулась, и свет загорелся снова. В пустой зал к другой стене внесли вычурный тонконогий столик, на нем обнаружилась скатерть, букет лилий, сервированный ужин. Последним молчаливые человекоподобные слуги внесли кресло, все это время на пленника старались не смотреть. Они примерно представляли, что с ним будет и словно боялись заразиться предстоящим через случайный взгляд.
Снова ожидание. Потом лампочки под потолком как будто разом мигнули. Издалека, через этаж или из какого-то закоулка послышался звук, и эхо от него рассыпалось по стенам. Неспешные удары копыт. Переднее левое. Пленник знал, какое оно наощупь, знал шершавый край, едва сохранивший следы, зазубрины от какого-то инструмента, знал тепло, заключенное внутри, словно жизнь не желала уходить из него, даже отрезанного. А теперь оно там, и ему мерещится, будто адская тварь прихрамывает, но нет, просто переступил порог, и звякнул металл, и что-то еще.
Дверь распахнулась, будто от сквозняка. Никакого демонического коня не было, Оробас выглядел чуть встрепанным, в домашнем халате, расшитом золотистыми веточками по черно-кофейному атласу, в мягких туфлях, которые едва слышно шуршали по бетону. Глаза все еще подведены черным, на губах остатки золотой помады, а волосы влажные и рассыпались прядями по плечам. Казалось, он вышел из своей ванны и направлялся в спальню за недочитанным томиком стихов, но почему-то оказался здесь, среди серых стен каземата. Рассеянно улыбнулся – будто старому знакомому, уселся в приготовленное для него кресло и рассмотрел своего пленника целиком, обессилевшего, присмиревшего. Взгляд как липкое прикосновение прошелся по лицу, по вывернутым рукам, по жалкому обнаженному естеству, по залитым кровью ступням, под которыми набралась уже небольшая темная лужица. Затем внимание Оробаса иссякло и он занялся инспектированием посудин, взял к себе на колени вазу с салатом и обвиняюще ткнул вилкой в сторону Атты:
– Хочешь сказать, оно того стоило? Серьезно? Нет-нет, помолчи пока, – по малейшему жесту что-то залепило рот, будто ледяная жесткая ладонь; демон, капризный парнишка, жевал свой ужин и объяснял с набитым ртом: – Ты слишком недавно у нас, с нами, ты не понимаешь, к чему пришел в итоге, дай мне минуты три… Во-первых, ты у меня во дворце и тебя здесь не найдут. Возможно, если бы я назвал цену, Элигос за тебя бы заплатил, но мне куда интересней ты сам, чем сомнительные сокровища Флегетона. Во-вторых, человеческое тело, оно такое маленькое и хрупкое, и нужно совсем немного кожи, металла или дерева какой-нибудь занятной формы, чтобы сделать существование в этом теле гарантированно невыносимым… думаю, ты это уже заметил. Деться тебе из своего тела некуда, смена метки это секундная операция, и ты все свои последующие разы будешь перерождаться здесь же. Бассейн через коридор и направо, вторая дверь. В-третьих, когда я с тобой закончу, ты больше не будешь человеком. Когда я решу, что хватит, в тебе уже не будет ни рассудка, ни воли, ни даже памяти, несколько лет ты будешь видеть, как распадаешься – потеряется детство и голос твоей матери, лицо твоего отца, знакомые улицы, твое имя, смысл жизни, еще что-нибудь занятное. И на всем пути ты будешь выть как псина, которую забивают насмерть, а сегодняшнее покажется прогулкой в саду под акациями. В этих стенах даже демоны лишались рассудка от страданий. Вот к чему ты пришел, Мохамед Атта, дата смерти 11.09.2001 года, собственность герцога Элигоса, домен Флегетон, пункт номер 16282.
А вот теперь я спрошу – оно того стоило? Мне кажется, ты сделал то, что сделал не из дерзости, я вижу, что у тебя есть какая-то идея, и это действительно интересно. Расскажи-ка, что за человеческая глупость сподвигает на подобное?
Невидимые слуги налили вина в бокал, белого, терпкого, с восточных склонов Тенебрийских гор; промочив горло, Оробас приказал и балка пошла вниз, как будто сама собой, уперлась в торчащий из стены и залитый кровью штырь, но пленник теперь сидел на полу, все еще полувися на руках.
такие дела.
Унижение. Это чувство, которое постоянно преследовало его в Доминионе при столкновении с демонами, где бы и когда эти встречи не происходили, почти всегда, за редким исключением — унижение, выворачивающее изнутри осознание, что ты — существо не второго даже сорта, а десятого, ты как грязь на их ногтях, которую они готовы сковырнуть брезгливо и отбросить прочь, ты никто, твой номер ноль, ты ничего не можешь им противопоставить и не можешь с ними тягаться и заставить считаться с тобой. Чувство такое глубокое, въевшееся и стойкое, что впору было заподозрить, с демонов ли оно началось, или его корни уходят вглубь, еще дальше — но Атта не хотел думать еще дальше, он останавливался мыслями на демонах.
Потому с такой радостью он и отпиливал копыто полудохлому демоническому коню — отомстить за то, что он, человек, номер ноль и грязь под ногтями, заставить испугаться себя хотя бы ненадолго. До чего он был краткосрочный, этот триумф. А теперь он снова в лапах демона и это преследующее его всю жизни унижение явлено в самой откровенной и омерзительной форме и брошено ему в лицо, как обоссанная тряпка.
Вон ему примерещился стук копыт — он ждал, что в комнату войдет тонкокостный белесый конь, а в комнату вошел томный юноша в халате, и Атту тотчас перекосило от унижения и следовавшей за ним ненависти: как беспомощно и гадко ты себя чувствуешь, когда ты даже не можешь быть уверен, с кем говоришь, потому что этот кто-то сменил свой облик на совершенно иной, даже отдаленно не похожий, а при этом этот кто-то знает в точности, кто ты есть, потому что это написано у тебя на лбу!
Этот кто-то рассматривает тебя, голого, распятого на дыбе, замирающего от страха в предчувствии новых пыток, этот кто-то садится жрать изысканную еду за изящным столиком, украшенным цветами, пока ты едва способен собрать во рту слюну, чтоб смочить пересохшие губы, этот кто-то затыкает тебе рот, не прикасаясь к нему, как будто ты действительно мог бы что-то сказать, этот кто-то напоминает тебе, что ты — раб другого демона, под пятизначным номером (аааа, почему не шестизначным, семизначным? чего мелочитесь уже, откуда у вас вообще такой счет?)
Этот кто-то — видимо, Оробас. Атта всматривается в него с пристальной ненавистью, стараясь угадать, правильно ли все понял или это какой-то дурацкий розыгрыш. Нет, по логике, конечно, это Оробас, но... Проклятые демоны.
Этот Оробас рассказывает ему ровно то же самое, что твердили его собственные мысли, и странным образом это дает какую-то глупую иллюзию контроля: аха, захотел открыть мне глаза, считаешь меня за наивного дурачка? А то я не знал всего того, что ты тут рассказываешь, а то я не знал.
Он заходится в ненависти.
Балка поплыла вниз, Атта соскользнул со штыря, еще глубже оцарапав без того раненные пятки, приземлился на пол, кривясь от боли, вызванной сменой положения рук — кажется, сейчас должно стать легче, потому что он теперь не висел на руках всем телом, а опирался на колени, но легче пока не стало.
Кажется, он должен что-то ответить, что у него спрашивали. Что-то про идею? Какую идею? Что за глупые вопросы?
Оно того стоило.
Оно того стоило?
Я не жалею.
Я знал, на что шел.
Я все это знал.
Я в курсе.
Вслух он говорит совсем другое, то, что, пожалуй, не стоило бы говорить, но оно рвется само из иссохшего горла хриплым полушепотом:
— Аа, шайтааан, — ненависть клокочет в голосе. — Отрастил свое копытце? Пшл нахуй, нечисть.
Балка взлетает вверх, и Атту пронзает такая боль, как будто руки вырвали с мясом из плеч, а все тело растянули и выкрутили.
— ААААААААААААААААА!
Какие-то секунды он висел, как червяк, корчась и дергаясь в судорогах, потом балка ринулась вниз, так, что колени впечатались в бетон, бухнулась впереди за головой, согнув его в мерзкой карикатуре на земной поклон (он снова не смог сдержать вой) и вернулась назад на штырь, оставив его сидеть на коленях с поднятыми руками.
Говорить он еще какое-то время не мог, только дышал ртом, заливаясь слезами и прислушиваясь к затихающим, но не исчезающим совсем волнам боли.
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
Оробас аккуратно набрал пасты на вилку, жевал, не отрывая глаз от пленника. Определенно, зрелище ему нравилось. Выловил маленький аккуратный гриб из белого соуса. Соусы у них на дворцовой кухне выходили исключительно, ресторанам и не снилось. А, может, он просто привык к готовке своих поваров.
Праздные бесы-мухи вернулись на место, расселись на рукаве и на руке. Одна по-мушиному умывается, трет лапками по круглой голове. Им безразлично, какие приказы выполнять – подносить напитки или тягать балку с вопящим человеком, им все безразлично, кроме направляющей их воли.
– Я тебя достаточно воспитал или продолжим? – поинтересовался, небрежно выплеснув остатки белого из бокала на пол, жестом потребовал красного.
– Хватит…
По голосу понятно, что хватит. По голосу понятно, что он пока что не представляет, насколько это «хватит» находится рано относительно того, когда другое, более мучительное и насущное «хватит» станет по-настоящему необходимым, единственно желанным.
– Заметь, я тебя еще и пальцем не тронул, мы просто разговариваем, – Оробас чуть пожал плечами, будто недоумевая, откуда это мрачное упрямство. – Это ты пришел на мою землю, ты на меня напал. Я спрашиваю – почему, в чем была причина? Для тебя уже ничего не переменится, но ты можешь рассказать напоследок, что именно хотел донести своей нелепой выходкой. Если ты на это потратил свою последнюю попытку что-то сделать в своей жизни, наверное, это важно, а?
такие дела.
После второго раунда Атте показалось что-то странное, упущенное с первого раза. Это демон спрашивает так, как будто действительно хочет услышать ответ, ему неизвестный. А не только поглумиться, высмеять, потоптаться по его идеалам, все такое понятное, предсказуемое, не заслуживающее ответов, которые, конечно, придется давать, чтобы снова не улететь под потолок в агонии. Но кажется, он спрашивает, потому что действительно интересуется ответом.
Атта сбился с мыслей.
Он искренне попытался отодвинуть подальше круговорот кипящих в мозгу оскорблений и сформулировать более-менее внятно свою идею — и ничего не смог. Мимо пролетали обрывки каких-то фраз, которые никак не склеивались в предложения.
"Вот это финт. Ты сто раз мысленно представлял себе, как враги поймают и спросят зачем, и ты будешь вещать им красноречиво и доходчиво, и вот они враги, вот ты пойман, но..."
Слова не шли.
Захотелось сказать "Просто разговариваем? Давай, может, ты снимешь меня с этой балки, дашь попить, поесть, выспаться в тепле, и тогда мы поговорим и я тебе изложу всю свою идею".
Но он чувствовал, что это прозвучит совсем уж жалким нытьем.
— Какая причина, зачем я это сделал, — начал он говорить, сбиваясь, просто уже чтоб говорить, в надежде, что удастся наконец вернуть связность речи. — Лучше бы ты, право, прочитал статью в нашей газете, там все будет изложено складно и красиво. Там не я писал.
Слеза, застрявшая на щеке, щипала кожу, он нагнул голову в попытке смахнуть ее плечом, но это была дурацкая затея — он только снова дернул растянутые руки, не удержавшись, зашипел от боли.
— Дело-то вообще не во мне, я всего лишь один из многих, если я сгину, то другие продолжат наше дело.
Какую банальную херню он несет. Интересно, сколько раз Оробас уже слышал что-то подобное в своих застенках? Наверное, кучу раз.
Тем более что сам Атта не был так уж уверен в том, что сказал. Очередная жуткая мысль, нет, точнее даже, целый пакет мыслей выгрузился внезапно в мозг и вызвал очередной приступ паники. В самом деле он, Атта, все это время переживал за свою собственную шкурку и кичился тем, что готов пожертвовать собой, но не озадачился подумать, как используют для уничтожения его организации те знания, которые вытянут из него. Да, они обсуждали время от времени этот вопрос в кругу руководства, и да, это была общепринятая аксиома: считать, что взятый плен человек выдаст все, что знает, но... одно дело справиться с последствиями слитых рядовым членом сведений, а совсем другое, когда речь идет об эмире! Да, они говорили. Но мало говорить, нужно было разрабатывать протоколы и проводить учения: как перемещать лагеря, как перепрятать архивы, как уводить в убежища людей и переставить им метки, как... Ничего этого сделано не было и вряд ли можно было надеяться, что будет сделано так, сходу, потому что люди не способны справиться с таким сходу.
Почему они относились к этому так легкомысленно? Ответ простой: они не чувствовали угрозы в достаточной степени. Расслабились в этом аду, который, при всех его ужасах, отличался просто поразительно неэффективными службами безопасности в тех вопросах, которые касались террористической деятельности людей. Сколько раз было, что исполнителей ловили на попытке какого-то теракта или после, потом показательно казнили, помучив, но не попытавшись даже раскрыть сеть хотя бы на три-четыре звена вглубь и уничтожить ячейку.
Вот и сейчас. Сколько он торчал в этом подвале, а к нему так и не пришел какой-нибудь адский следователь, чтоб по горячим следам выяснить все про подельников и заарестовать всех. Дали время, чтоб его люди могли сообразить, что Атта в руках врагов, и подумать о дальнейших шагах.
Или он недооценивает демонов? Или им это не нужно, и организация разрушена уже вся? Или та муха, которую сажали на Атту, имеет способность вытягивать всю информацию из человека одним прикосновением лапок? Стоп, Атта. Не сходи с ума. Демоны обладают магией, но все же не такого уровня. Иначе тебе задавали бы совсем другие вопросы. Зная все.
Пока тебя спрашивают так, как будто в первые в жизни вообще узнали о существовании твоего движения.
Может быть, им просто повезло. Просто, в очередной раз, их вынесет на свет божий не своими невероятными талантами, а чужими промахами. Не его, очевидно, но да Бог с ним. Пусть его организация выберет себе другого эмира, того, который не будет лично бегать по опасным акциям, рискуя погубить все своим безрассудством.
Лучше продолжить говорить, заодно, возможно, он прояснит что-то из реакции Оробаса.
— Зачем я это сделал, это очень просто. Ты заставил людей поклоняться себе, как божеству, это запрещено, есть только один Бог. Я хотел показать людям, что ты — такое же создание, как и все прочие, ты не всемогущ и ты уязвим. И я это показал, и, я не сомневаюсь, они это заметили. То, что ты меня замучаешь до безумия, это не изменит.
Ему примерещилось, что балка сейчас опять взлетит к потолку, он дернулся, сжался испуганно и замер, снова потеряв дар слова.
Воистину, моя молитва и мое поклонение, то, как я живу и то, как я умру
посвящены Аллаху, Господу миров
– Ты лжешь, – Оробас разве только плечами не пожал, пил себе свое вино, косясь из-за края бокала – что, догадываешься, что бывает за ложь? Или это маленькая ложь, простительная, вполне ожидаемая на фоне торга, в который неизменно перерастают любые сношения с демонами.
– Люди знают, что мы уязвимы, знают, что мы не боги, но также люди знают, что мы – это следующая ступень после человека. После человечности. Понимаешь? Отсюда восторг, который так тебя оскорбляет. Мы показываем им, что в человеческой власти переписывать законы мироздания, изменять форму, изменять мир вокруг и открывать его тайны. И это не мешает им верить во что им заблагорассудится, ведь мы вполне можем отыскаться в божественном замысле, как думаешь? Если все во власти Его и все предусмотрено, установлено и сотворено, почему ты замахиваешься судить происходящее в моем домене? Может, это и есть Его воля и испытания, посланные Им этим людям? Может быть, я Его орудие, а ты просто дурак?
Демон теперь откровенно улыбался. Знал, что может быть. Все может быть для смертного, завязшего в кучке взаимоисключающих догматов. И знал, что люди в его провинциях успешно нашли выход, вписали присутствие Оробаса и его развязного двора в свое мировоззрение и вполне смирились с текущим положением дел. Его искренне удивляло желание пришельцев все переделать. Снова взяться все переделывать. Но, если и было в чем-то некое провидение, так это в них, в странных людях, которые берутся за это, приносят нечто новое и… жизнь становится интересной. Потрясающей. Полной неожиданностей, которые могут оправдать издержки. Когда один год неотличим от другого, и так десятилетиями, это пытка, от которой сам запросишься на крест, если бы только кресты от подобного спасали! Демон улыбался, потому что видел перед собой нечто любопытное, непонятное, даже забавное. Хотел уничтожить, хотел сломить и превратить во прах, как обещал, но только за то, что еще инстинктивно берег левую руку, за то, что перенес, а это были далеко не самые приятные дни, но все же…
– Да-да, я искренне рассчитываю на то, что другие продолжат твое дело, Мохамед Атта, – серьезно проговорил он, подавшись вперед, посмотрел в лицо странными желтыми глазами, и зрачки отсвечивали, как у дикого животного. – От кого-то же я добьюсь ответа, почему? Когда ты вел… – он мучительно нахмурился, потому что магия Башни не давала нужного слова, а в том итальянском, который он помнил, этого слова еще не существовало, и, потянувшись, Оробас извлек нужное название из памяти пленника (будто ледяные пальцы перелистнули воспоминания, нащупали одно – последнее), – Когда ты вел самолет в ту башню, чего ты хотел? Я знаю, кто ты.
Вообще-то не знал, просто просмотрел собранную для него секретарем справку. Копаться в человеческой душе не так интересно и приятно, как им, возможно, кажется, но пусть думает о какой-нибудь немыслимой магии. Они все думают, что магия это щелчок пальцев и все происходит само собой, пока сами не начинают учиться. Иногда Оробасу казалось, что половина проблем была бы решена, если бы людям хоть кто-нибудь взялся объяснить, кто ими правит. А может быть, эти проблемы бы просто удвоились – что хорошего в том, что это кучка бездельников, развратников и пьяниц, пусть и владеющих всеми тайнами мироздания…
Словно вспомнив о каких-то особо полезных тайнах этого самого мироздания Оробас, как что-то обыденное, как какую-то ерунду, швырнул ему образ – пара странных зданий, коробки без украшений, дымная шапка над одним и росчерк, и пламя посередине второго. Кто-то увидел, и запомнил, и принес это воспоминание в Ад как странную диковинку, как загадку, к которой можно было найти решение прямо сейчас.
такие дела.
Вы здесь » Dominion » Личные истории » 18 дней