
Лерайе и Сфинкс
1558 гг. до н. э. Египет
- Подпись автора
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?

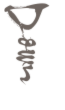
Dominion |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Dominion » Личные истории » Суд Осириса

Лерайе и Сфинкс
1558 гг. до н. э. Египет
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Херихеб - секретарь, жрец, летописец и просто слуга своего отца - “слишком ничтожный, чтобы воспользоваться магической властью над словом и миром, в отличие от других мужчин моего рода”, непочтительно подпирает спиной статую всемудрого благого Тота. Бог день за днём наблюдает за работой писцов, невозбранно и восторженно занятых роскошью придворных париков, а не мудростью текстов и красотой древесных колец калафонов.
Мереру он видится добрым великим духом с отцовскими нотками, смертельно скучающим без полновесных гранатов достойных загадок - после иероглифов-то! После астрономии! Можно иметь тысячи совершенных каменных воплощений, знать обо всем в этом мире, а видеть все равно одни бездумные человечьи плечи, подрагивающие под взглядным звездным холодом, мертвую храмовую роскошь и вкрадчивые стенные рельефы.
Но от людей жрец волен избавиться - и поэтому по залу, отдаваясь шуршащим гулом экслибрисов, разгуливает ветер. Светскими обязанностями его сегодня не наградили.
Собственное ничтожество тревожит ещё меньше, чем обижало когда-то не-избавление от щедрот плети “старшего брата” и имя почти простонародное.
Херихеб владеет словом и толкует магические тексты, не захлебнувшись потоком пестрых аллегорий, творит ритуалы и выбирает, что станет мировой истиной: только написанное особым образом бывает вечным. Херихеб властен над прозрачным загробным путем любой души, но власть его над фараоном больше, чем над любым смертным.
Потому Книгу Мертвых для отца, возжелавшего стать богом, и пишет самый никчемный из отпрысков. Он знает слишком много о царском имени и слишком мало о придворных интригах и искусстве войны: избавляться будет почти приятно.
Заклинания Книги священны. Собирать их вместе для одного человека, многократно усиливая действие, - гневить горних и земных владык, посягая на их власть. Люди благородные, предпочитающие золоту и почестям не-видные благочестие и достоинство, никогда не стремятся исчезнуть из вида в смертной тени, захватив с собой больше знания, чем способны унести. Но отец, дай ему волю, и солнце бы за собой водил на позолоченной верёвочке, наплевав на то, что оно прожгло его руки до костей. Поэтому Мерер, как почтительный сын, не сопротивляется. Кому не хочется пожить подольше? Фараонова власть над ним тоже абсолютна.
Не то чтобы он так уж неправ в своей туземной силовой логике. Но во всех записанных вариантах Книги нет единственного заклятия, которое приходит жрецам во снах и передается только ближайшим и драгоценнейшим воспитанникам - и то когда перед глазами начинает навязчиво маячить стремительный призрак ядовитой и скорой смерти.
Правитель волен вскрыть все захоронения, устроив на своих землях безумный красочный фестиваль эксгумаций, волен разослать после этого армию писцов: безмолвных и трудолюбивых, страстно желающих угодить любыми способами, - и заставить сделать копии всех свитков мертвых, которые достанут его люди. И все равно не найдет того, что ищет. Слова, способные сделать кого-то истинно равным бессмертным, прячутся иначе.
Очарование этой мизансцены всегда приводит Мерера в хорошее настроение. Держать в руках звонкую тайну, концы которой надёжно спрятаны в мире, откуда ещё никто не возвращался, и осознавать, что можешь по нежной прихоти передать ее распоследнему земледельцу, утаив от мирских владык, - чистый восторг.
Уж на смертного царя боги как-нибудь сами найдут управу. А мертвые…
“Переживут как-нибудь”.
Мысль о греховности этого соображения не давала бы ему спать лунными ночами, если бы не закоренелая ритуальная уверенность в том, что собственное сердце, отравленное рваными намеками рассказа о Неферкара, не имеет ни тончайшего шанса иметь вес, равный весу пера. Изнеженный, несмотря на нелюбовь, юный жрец слишком ласково смотрит на своих богов, то наделяя их чертами знакомых, то смущённо вылепливая лиловой поволокой мысли единое существо из бессчетных свиточных образов.
Родовая жадность находит в нем причудливо непрактичную форму материализации - ничто не может быть присвоено, пока не отдано безвозмездно и невозвратно. Жемчуга предрассветных мечтаний Мерер стыдливо, но внятно отражает самым священным, иероглифическим - даже не иератическим, хоть и на свитке, а не на камне - письмом, чтобы потом сжечь, перечитав напоследок и приправив благовониями.
Вкрадчивая прохлада тяжёлого воздуха и сейчас предлагает взять в руки калам. Соблазняет тишиной и одиноким сладким спокойствием: день слишком хорош, чтобы кому-то было дело до ядовитого книгочея, а мысли дразнят, плавают в прозрачном аквариуме черепа, с пугающей ясностью переплетая образ бога-шакала, вышагивающего из пирамиды особенно достойного предка, с задумчивыми глазами богини великого знания. Фантазия, затканная бирюзой мозаики ночного Солнца и водяных лилий, просится на волю.
Не мерещились бы в отдалении лёгкие шаги, беспокоящие почти кошачий нервный слух, - и можно было бы даже не прятать заготовленный лист, обречённый на встречу с огнем.
Благословенны воды Нила, несущего на наши поля животворящий ил и рыб. Благословенно щедрое солнце вечного Египта, поднимающее на наших полях урожаи риса и пшеницы. Благословенные узколистые пальмы, приносящие нам тень и финики. Благословенны богорожденные фараоны Египта, знать его, войны, писцы и слуги. Даже рабы здесь осияны несмолкающим пепелящим солнцем…
Но особо благословенны египетские жрецы.
Так думала Шамхат, покидая в рассветных сумерках спальню Имхотепа, в пыльном Себастисе. Здесь в Вавилоне всегда ужасно пыльно и душно, как в пекле.
Она не была умна от природы. В храме Изиды Шамхат не посвятили в высшие таинства. Растерзанная благодарной толпой, девчонка оказалась в преисподней без всякого понимания, как заработать на жизнь иным ремеслом чем то, которое она освоила на земле. Ей пришлось прожить несколько жизней, полных угрюмой мерзости и безнадеги, завершившихся некрасивой смертью у дороги или в хмельном переулке, прежде чем Шамхат, наконец, поняла, что это путь в никуда – не единственный. Но на верный путь у нее не было средств, знакомств, умения учиться, внутренней дисциплины и стойкости. Ничего кроме желания выжить и сохранить пусть и искаженную, но красоту хотя бы снаружи. За это больше платили – во всяком случае в Гоморре в те седые времена. А потому путь ее был медленным. Мало кого способны так мотивировать каменистые наросты на теле, мешавшие даже этому последнему ремеслу. Но они, объявившись при новом рождении, там, где охотнее всего ее гости желали ее измять, изменили жизнь жречки навсегда.
Первые свои знания она украла, другие выменяла. Не торопясь жить, училась читать книги, написанные мужчинами для мужчин. Как оказалось, для перевода нужны мужчины. Женская магия – целительная и приворотная дрянь, совершенно другого толка. Она мелочна по природе своей даже там, где касается рождения и смерти – разрешения от бремени и свадебных ритуалов. Мужчины всегда брали больше и мыслили шире – завоевывали, строили, разрушали и создавали и этим были подобны богам. Мужчины научили Шамхат желать и получать желаемое, не склоняясь перед трудностями и не отступая перед лицом препятствий или соперничества. Мужчины научили ее не бояться, не останавливаться и не оглядываться. Это наука оказалась самой трудной из тех, что жречке пришлось освоить. Все прочие она собирала по крупицам. Еще в храме Изиды Шамхат объяснили, что бояться стоит единственного человека, способного оградить тебя ото всех других, кого так же бояться стоит. В те времена даже ад был юн и вел бесконечные войны. А Флегетон вел их яростнее других, и в центре его было безопаснее, чем в любом месте с ним граничащим. Концепция смерти во Флегетоне была совершенно иной, не такой какой позже явится в Немусе. Но именно там будущий великолепный маркиз увидел настоящие армии мертвецов, попадающие в распоряжение тогдашнего правителя скопом, подготовленные и хорошо вооруженные. В те времен Флегетон был велик! И уже тогда Шамхат поняла, что не справится с этим диким племенем исполненных славой, безудержных ублюдков. Ей приходилось делать скидку на собственные силы. Если она желала хотя бы безопасности, ей нужна была другая армия. Многочисленная, но подавленная, послушная, и тем не менее устрашающая. Такая, с которой не хотелось бы по-настоящему драться и изъедающая силы не удалью, чем-то другим… чем-то страшнее, обреченнее, гаже. Для этого требовалась магия совершено иного толка…
Имхотеп подкупал ее структурностью и вместе с этим беспредельностью замыслов. Приподнимаясь на локте в спутанных простынях, он говорил «а давай посмотрим шире!» - и смотрел куда-то в перспективу улиц так, словно видел за горизонтом. За возможность с ним совидеть, Шамхат готова была на разное. Имхотеп рассказал ей про встающих из Египетского песка мертвецов. И она поняла...
Это были времена, когда демоны ходили по земле, принимая поклонение и называя себя богами. И там, на земле, куда проще было украсть их секреты у людей, чем здесь, где их замыкали печати и охраняли бесы.
Высокий прямоугольник разящего предполуденного света падал в проруб распахнутых дверей и ложился между массивными колоннами храма, подсвечивая яркие рисунки и вязь иероглифов, складывающих магические письмена, которые хранили святилище. Письмена жгли и истончали терпение, вынуждали стискивать зубы. Стискивать зубы – участь вора, к которой привыкаешь.
В прямоугольник, осиянный предвестием скорой песчаной бури, вошел шакал. Поднялся по храмовым ступеням в крошечных вихрях песка, поднятого ветром с полированного камня. Острые уши его уронили зубатую тень в утробу храма, и чем глубже он заходил – шаг за шагом перебирая тонкими лапами – тем длиннее делалась тень и тем более походила она на человеческую. Пока не поднялась и не пошла мимо колонн, сохранив от шакала лишь голову с острыми чуткими ушами. На грани света и прохладного храмового мрака Анубис оброс поджарой угольно-черной плотью. Сухой нечеловеческий рельеф его тела лишь подчеркивал яркий бисер усеха и темное золото широких браслетов. И он не ожидал нынче, в дни дворцовых празднеств, застать в храме хоть одного человека, но застал. К своему веселью и неудовольствию.
- Что это?
Когтистая лапа подцепила пергамент прежде, чем писарь успел бы прийти в себя. Великие демоны Египта являются к людям, но не часто и не каждому. Лишь излюбленным своим жрецам, которых желают видеть при себе и в посмертии.
Он читал вслух. Неожиданные из уст шакала слова на совершенно людском языке бились эхом о стены, рождая тела, спутанные полуденным зноем, дрожащие в сладостной истоме влажных прикосновений, такие материальные в воображении в красках чувственных обертонов, что их почти можно было увидеть в загустевшем воздухе.
- Твои желания исполнены честолюбия, - шакал прервался на сладкой ноте, в шаге от желанного, долгожданного экстаза героев.
Можно обладать величайшими знаниями мира, его страшнейшими тайнами, мистерией рождения и смерти, но поймаешься ты всегда на желании куда-то построить свой член. Люди упоительны в этой сладострастной предсказуемости. И даже сейчас, когда чужая магия обжигала кожу, демон мысленно улыбался неистребимой жажде, которую Всевышний заложил в свое величайшее творение еще на заре времен.
- Зачем желать чего-то меньшего, чем наибольшее из того, на что упал твой взгляд?
В этом они были по-своему согласны, и мальчик ему понравился. Да и пылкая юношеская греза тоже. Пылкость - неизбежная цена искушенности, ее в аду почти не найти.
- Ты знаешь, что можешь обрести желанное, если сойдешь со мной в Дуат? – яркие, янтарные глаза шакала обшаривали детскую душу под кожей и ребрами.
- Ни один живущий во плоти не переживет столько радости.
[icon]https://i.imgur.com/oOyxv0I.png[/icon]
Отредактировано Leraje (2024-05-24 00:03:33)
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Дивный мелкотравчатый бархат чужого смеха, заботливо спрятанного, рисует на душе что-то благодарственное.
Это все безумно глупо: встретиться с богом, когда лениво мечтаешь о нем. Лениво, со скуки, в попытке отлепиться от зримо-вещного мира, низая бесконечный словесный бисер, – здравствуй, Огорченная Любовь. Жреческому творчеству безумно далеко до пристойной мадригальности: оно наивно, угловато и не стоит ни единого доброго слова. Говорить о людях - не сочинять заклинания и читать в них грядущее. Здесь талант нужен, а не прорва свободного времени.
Мерер окидывает гостя взглядом, подаётся вперёд неуловимо кошачьей подрагивающей повадкой, склоняя тяжёлую от парика голову. Задумчиво и незаметно для себя самого принюхивается, цепляет зубами верхнюю губу, всматривается широко раскрытыми глазами: только что не пробует на вкус и не обходит непочтительно по кругу, мягко и беззвучно ступая по храмовому полу. И с никчёмной запоздалой стыдливостью прикрывает рукой распадающиеся свитки.
Великий бог не кажется выходцем из пирамид, несмотря на принятый облик. С торжественных крашеных рельефов он уж точно не сходил. Скорее уж сплелся из жаркого воздуха, из осколков мавританской роскоши, вавилонской водной сини, свежести севера, вековой мудрости мира и кочевых огней.
“Намного лучше людских представлений,” – можно ехидно поздравить себя с хорошим вкусом, раз жив, несмотря на непочтительные прочтенные вольности. Смотрит Анубис великолепным феррарским Лионелло, золотовзглядым и весёлым, – до которого Мереру ещё жить и жить, сменив ворох имён, прихотливо похожих на его первое. Не тем жалким слепком, который останется от него, герцога, через четыре сотни лет. А живым, деятельным, статным и жестоким - все в рамках добрых домашних традиций. И непозволительно заинтересованным.
– В Дуат, – повторяет машинально, перебирает буквы, пробует знакомое с детства имя мира на вкус, вдумчиво тянет по пергаменту разжеванный стержень, с которого уже слетела скороговоркой первая-капля-во-славу. – В Ду-ат. А что там есть на самом деле?
Мерер уже согласен. Здесь он не оставляет ничего ценного. Жаль разве что этот зал: что-то ему подсказывает, что такие сошествия никогда не проходят бесследно для срединно-подлунного мира, а значит бесценные тексты или сгинут под рухнувшими в одночасье стенами, или – вдруг! – отправятся с ними. Согласен, хотя плечи меленько и мерзко дерет подозрением, что назвать этот переход приятным не смог бы даже человек, способный получить удовольствие от острых челюстей нильских крокодилов. Но до того ему очень хочется услышать и записать мерный божеский рассказ. Сделать здесь хоть что-то стоящее, свое, не завязанное на волю местного сатрапчика, зачарованного навсегда - больше, чем пристойно даже в благословенной святости двух царств, - своей нелепой идеей посмертного владычества.
А может и спалить отцовскую загробную книжку! Рука сама тянется к листу, зачарованно переламывая его в парочке самых тонких мест, – что может завораживать больше, чем методичное уничтожение собственной работы, не милой сердцу? Но по рёбрам все равно ползут робкие росточки сожаления, обвивая цепкой колючей лианностью кости, и крохотное мстительное варварство приходится отложить, пережидая.
– И зачем я там? Зачем вам..? И что нужно делать?
Мерер уже сейчас предвидит, что никогда не поймет, как это всё-таки вышло. Сошедший к тебе - за тобой! - бог всегда будет явлением загадочным. Даже если две сотни лет спустя ты разберёшься в мотивах, причинах и следствиях, густая мягкая благодарность никуда не исчезнет, останется всевечным фундаментом, на котором вырастет все остальное. Но всё-таки зачем?
Ему самому интересно, поверит ли он в лестный ответ. Если он будет, конечно, лестным – но что-то жрецу подсказывает, что божественные методы вербовки от простых и испытанных человеческих отличаются мало. Богам ни к чему сложные схемы – им просто не отказывают. Не хочется, когда густая и неуловимо родная магия струится по залу несметной нильской водой, посверкивая золотыми всполохами чуждых смертным букв-приказов.
Чем-то они напоминают Мереру то самое единственное заклинание. Структурой? Ощущением власти?
Вдруг из них можно создать и другие? Неведомые людям. А может и не-людям неведомые, но способные на них влиять. Кто знает, как у них там с живым научным интересом? Впору очароваться собственной концепцией…
Отереть коленками прохладный пол, облитый потоками незримой, скользящей по коже силы, жрецу случается как-то неожиданно для себя самого. Ритуального почтения в этом меньше, чем было бы прилично для его статуса: оно имеется, но нелепо начинать соблюдать формальности сейчас. А вот рассмотреть на полу дразнящие проблески, ускользающие от человеческого взгляда, хочется до дрожи. Когда ещё такое увидишь? А бог будто бы и не гневается. Забавляется. Может и ему интересно?
Сладострастие, напрочь затонувшее под наплывом любопытства, оскорбленно топчется где-то поодаль, на краю черепа. Не исчезает, но пока ещё милосердно бережет хозяина от убийственного избытка впечатлений. Хотя мир уже начинает странным образом оплывать по краям: чужое пристальное молчание даётся с трудом. “Будто решает окончательно. Что-то. И ни единого шороха ведь. Даже ветер притих и благоговейно не тревожит чуткие уши".
Мерер всегда старался думать о близком загробье поменьше, и сейчас об этом приходится пожалеть - пусть и малую ускользающую секунду. Загадка-то из разряда сфинксовых, но в том и сложность. До ответа на любой из вопросов этого известного песочного человеколюбца надо ещё дорасти.
Поток вопросов и неподдельная увлечённость – внезапно лишившаяся сладостной поволоки и проросшая искренним заздравным ученичеством – сперва обескуражила Шамхат. Это что за прием?!
Ей не часто приходится воровать чужие секреты, но дисциплина в храме была, со всей очевидностью безобразная! Возможно, писца и оставили-то здесь в наказание за дерзость или нерадивость. Но эй! Не положено разве читать молитвы, воскурить благовонья или хотя бы предложить пива? Жарища! Да и вино здешнее тоже хвалят. С другой стороны, от дерзких бывает свой особенный толк, чего о нерадивых не скажешь.
Прежде чем совершить вылазку она изрядно потопталась в том районе Вавилона, где селились успешные выходцы из здешних мест. Послушала, что они говорят и немного, о чем думают, в доме Имхотепа, куда была вхожа под личиной обаятельного секретаря. Очень рано Шамхат поняла, что к серьезным разговорам женщин в этом мире не допускают. Зато умение создать серьезным людям доброе настроение и вовремя замолчать оставляет много пространства для того, как научился слушать. Уж про вино-то Шамхат не могла не позабыть. В аду не так много радостей – глаз наметан. Пока она скорбно размышляла о погрешностях воспитания людей в этом культе, Анубис неподвижно наблюдал за горячностью мальчишки, не сводя с него ярких янтарных глаз. А потом принял верное решение за него.
На колени.
Ее чары не были особенно хороши здесь, в чужом храме, но юнцу хватит. Хоть под юбку заглянешь. Всему учить… Со скепсисом усталой шлюхи, она двинулась дальше между колонн, оставляя писца без ответов. Богам во все времена не было дела до смертных, если пользы от них никакой. И Шамхат, наигравшись в сценку «ах, ты гадкий, грязный мальчишка», планировала заняться своими делами, пока она здесь единственная сущность, умеющая читать предупредительные знаки на стенах. В противном случае - явись сюда хозяева или иные претенденты на знание – воровку может ждать магический поединок настолько разрушительный, что вернет ее на несколько жизней назад и отпустит из мерзкой купели обессиленной и, возможно, снова уродливой. Тысячи лет спустя, новорожденные демоны, проклинающие скуку в академиях, не смогут даже представить, как дорого давался ей каждый шаг на этом пути.
А потому, оставив склонившегося писца позади и наедине с его изумительными вопросами, она обшаривала взглядом храм, припоминая все, что ей удалось узнать о его залах, святилищах и их назначении от тех, кто уже почил, был готов поделиться знаниями за те невеликие деньги и услуги, что у нее бывали при себе. Разобрать бы чужие чары, чтобы пройти внутрь хранилищ!
- Там…
Жречка не была умной, и потому светлые мысли проходили к ней неторопливо. Поднявшаяся за стенами храма песочная буря – знак беспокойства энергий. Врата адские и райские открываются не без сквозняка. Голос Анубиса, ровный, не измученный гиеньими связками, баритон, полный взвешенного бархата, рос мягким эхом, наполняя собою храм или только сознание мальчика, но в этот час одно не было отлично от другого.
- Ровно как здесь, есть только то, что ты пожелаешь и сумеешь создать вокруг себя.
Тень бога удалялась теперь в анфиладу комнат между высокими колоннами. Одна комната рождалась из другой, спутанные колоннадами и переходами, они росли от одного царствования до следующего, расширяя храм и возвеличивая богов и каждого нового строителя-фараона. Проклятый сумрачный лабиринт!
- Не потом ли вам даны книги? Но разве вы пользуетесь ими в полноте их власти?
Ей не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что мальчик двинется следом ровно так же, как поступил бы любой в трактире, внезапно пойманным интересом к задней комнате, куда ускользает пестрая юбка, только что ему обещанная.
- Возьми самую полную из них и сделай то, чего никто не смог прежде - вернись обратно, чтобы возвестить о чудесах Дуата живым.
Двери храма захлопнулись внутрь единовременным ударом гудящего зноя. Что бы в этот момент не подумал писец, воровка оказалась в ловушке, и ей оставалось только гадать, раскрыт ли ее визит, или хозяин просто вернулся домой. В любом случае времени оставалось трагически мало!
- Ладья не будет ждать.
[icon]https://i.imgur.com/oOyxv0I.png[/icon]
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Капельку раздерганная походка Анубиса напрочь убивает и без того хлипкий призрак пиетета. Зато подпитывает интерес. Научный. Мерер не очень хочет обращать писаные сказки в ясную явь сейчас, когда есть загадка поинтереснее неизбывной. Очевидное золото против полутайных ливанских сокровищ. Горклое вожделение - беззвучный термин - ему не то чтобы чуждо, но сейчас дремлет, и дремать вполне способно ещё долго. Потому что неведомо-книжное не замечаешь в своей личной уютной реальности, пока оно не ударит тебя по голове и не въестся бурлесковой отповедью в глаза.
Дверной грохот выбивает из размышлений о природе божественной магии. Жрецу тоже есть, кого опасаться: невозможно скрыть, существуя в витийном близдворцовом обществе, что Книга почти готова. А значит и жить ему осталось недолго. И момент сейчас - краше не придумаешь: пара текстов, в которых ещё осталось что-то, фараону не поднесенное, сверкает заголовками-экслибрисами на расстоянии вытянутой руки. Забрать, дописать. А первым автором - по молчаливому согласию всех причастных - подкормить тех самых богохранимых крокодилов. Вода всхлипнет мелодично и кротко, позволяя лилиям разрастись серебристым полотном.
В полной мере над земным миром не властно ни одно из написанных людьми заклинаний. Слова растекаются, сыплются песком, меняются и теряются, тают пышной пеной. Им бесконечно далеко до безупречной геометрической законченности, к которой стремились многие и многие цивилизации, сменяя друг друга на этой глупой с-мельничной войне. Но заставить того, кто идёт сюда одетым в неуязвимую самоуверенность, на пару минут потерять след, возможно и небезупречным инструментом, даже если его вдобавок трясет и швыряет, как любой разболтанный механизм.
Это даже не разозлит. Если убежден, что никто уже никуда не убежит, сопротивление должно бы забавлять. Весёленький узорчик безнадёжности на чётком, как греческий храм, плане.
Поэтому Мерер шепчет коротенькое заклинание, должное бы выиграть ему… минуты три?
И перебирает перепачканными пальцами свитки.
– Зачем живым чудеса Дуата? – получается насмешливо. Но что терять, если вечер уже при любом раскладе не закончится для тебя благополучно? А шелковистый яд надо стравливать, иначе канопы когда-нибудь будет нечем наполнить: все органы разъест. – Им глубоко безразлично, что там происходит за пределами их жизней. Об этом думают всерьез разве что за пару минут до смерти. Да и если мое возвращение сюда случится, я не успею даже мяукнуть перед тем, как обнаружу себя в неприятном и крайне… окончательным в своей неприятности положении.
Божественные шаги удаляются, требовательно затухают, приказывают подойти, придавливая импрессионистической тишью, но Мерер даже себе с трудом может признаться во вспышке ласково-лунной апатии.
Никуда он не хочет. Ничего он не хочет. Почему едва ли не предпоследний в его жизни уютный вечер опять обрывает какая-то своевольная чрезвычайность, мешающая дышать? Почему нельзя скрыться от всех и зажить где-нибудь экзотичным отшельником - приманкой для исходившихся странников, - заменив живых книгами? И надо снова пережёвывать кровящий змейный сплав обиды и тоски по неизбежному, в котором никто не виноват?
Но от отведенных себе неполных трёх минут осталась одна, поэтому придется прекратить предаваться власти болотистой саможалости.
Непрочные тексты ломаются, пока Мерер грубо, как сорную траву, собирает их в охапку. Без него в них теперь не разберется и сам бог мудрости. Маленькая наивная страховочка. Неосознанная. Ещё не посчитанная четырежды и ещё раз четыре, для верности. Невинная.
Жаркий замкнутый воздух делает вид, что шагать сквозь него становится куда сложнее, чем пару минут назад: ноги вязнут в мареве, а голова кумарно тянется к песку. Упрямство в роли единственно яркой черты характера может оказаться сильнее любой сторонней силы, поэтому честолюбиво догнать - дотащить себя до - ускользающего бога ему всё-таки удается. Обломки жутко сценической фразы о какой-то ладье тонут и сыплются, не достигая слуха, и согласиться непонятно на что, бессмысленно и безразлично пялясь в очередную стену, которой здесь вроде бы не было, херихеб своего отца - уже бывший - успевает едва-едва.
На чистом доверии.
Небу в Дуате придется оказаться синим и чистым, без песчаной примеси, а воздуху - избавленным от благовонного дыма, потому что вокруг себя Мерер сейчас силой и правом царской крови желает видеть только это. Должны же быть какие-то плюсы в перерождении?
Эхо торопливых мелких шагов заметалось между колонн, поджигая иероглифы бешеным алым и изумрудным, тревожным индиго и паническим шафраном. В каменной плоскости поднимались птицы, мчали рыбы, пальмы качались, цепляя листьями метелки камыша и, подчиняясь буре, дрожала водная гладь – письмена ожили, и от этого повсеместного движения, от этой ряби, кругом шла голова. Тяжелым валом катился под высокими потолками вибрирующий гул и, кажется, натолкнись на него, он задавит тебя всей яростью сходящий лавины.
Анубис тревожно прядал ушами, в попытке распознать, с какой стороны ему ждать вторжения. Темные провалы коридоров обещали все сразу. Он заметался, неожиданно лишаясь всей величественной, непоколебимой и давящей божественной стати, закрутил головой, потянул чутким носом воздух – тщетно. Дрожь храма отразилось в его взгляде коротким испугом. Шакал обернулся на торопливые шаги писца, отразил распахнутыми зрачками ворох папируса и решил, что хоть какая-то добыча лучше никакой. На месте разберемся.
- Пошли!
Подхватил мальчишку на руки со всеми его свитками, надеждами, тревогами и страхами. Стремительно вытянулся вверх в росте, вознося свою добычу над столами, сундуками и жаровнями, и стоило ему коснуться острыми ушами каменной крыши – исчез с хлопком. Содрагавшая воздух волна жара прокатилась в пустоте и ударилась в дверь с внутренней стороны храма.
- Твою. Мать.
Всякий раз, выпадая из вещного мира, рассчитываешь упасть на родную пышную кровать, чтобы преисподняя приняла тебя в ласковые объятия перин. Но с добычей прицел паскудно сбивается. Уронившись мимо постели в собственной спальне, в собственном доме в Мемфисе, Лерайе приложился затылком о кованный угол сундука. Сверху на него свалился писарь со своими книгами. В воздухе плавно кружили листы папируса, прикрывая обоих тонким слоем тайного знания. Какой же блаженный миг!
Еще-не-маркиз досадливо потер ушибленный затылок и продолжил блаженно лежать на прохладном полу, упиваясь самим фактом того, что сейчас не выбирается из маслянистой мутной воды купели, чтобы с ужасом искать на себе новые червоточины.
Обстановка в доме являла собой эклектичную мозаику римских, египетский и вавилонских традиций, которая после неминуемо родится в аравийских провинциях в момент расцвета римской империи. Пока же об успешности хозяина можно было судить лишь по качеству тканей, красоте резьбы на ножках кровати, которые с пола просматривались особенно хорошо и инкрустации на удручающе угловатом сундуке. В клетке в дальнем углу комнаты переливчато пели птицы с нарядными лапками из перламутра, неожиданным образом составляющими часть их живых тел. Лапки были обсажены золотыми кольцами. Напротив кровати, забранной пунцовым балдахином, высилось зеркало из платины в широкой нарядной раме. Наклон его был таким, чтобы саму эту кровать и себя в ней можно было разглядеть как можно лучше к своему полному удовольствию. И в этом зеркале сейчас, к разочарованию писаря, Анубис не был похож ни на шакала, ни на бога, но на юношу чуть старше его самого был. Дуат еще никогда не был так близок к провалу.
- А ты неплохо пишешь, - Депайе снял с лица богохульный лист папируса и оказался неожиданно хорош собой и без шакальей морды. - Надо на пиру зачитать при случае. Сможешь ещё таких историй написать? Про Тота? Про Осириса?
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Мерер заливисто смеётся, вглядываясь в удивительно светлое лицо с тонкими чертами. Ошалевшая от перемен голова ненадолго выныривает из тревожных песков - невозможно быть в напряжении вечно. Зыбучая тоска по брошенной жизни, свернувшаяся гибкой тоненькой змейкой до времени, никуда не исчезла. Люди всегда начинают слишком сильно ценить потерянное, даже если оно никогда того не стоило: пересыпанная смородина против жемчуга. Но это не сейчас. Пальцы цепляют тонкий восточный шелк случайного ковра, венчая им безуспешные попытки осознать себя таким - не живым и не мертвым.
– Шакалом было даже краше. А что, заклинания уже не нужны? – бывшего жреца, все ещё иррационально очарованного храмовым хрупким абрисом полуреальной шакаловой головы, кроет дурным весельем и голой невоспитанной любознательностью, вытеснившей всякий страх. Магия странного бога в незнакомом месте видна отчётливее, и предназначение каких-то знаков он точно знает. А значит и остальные достроить можно - тот же словарь, только чуть интереснее. – Их я тоже могу. Даже те. Ну, те самые. Которые обычно не пишут.
Приходится неопределенно помахать узкой кистью, смягчая нежданное косноязычие, и состроить очень-важное-лицо, чтобы запоздало обозначить хотя бы благонравную не-непристойность своих “тех самых”. Можно ли избавиться от тревоги, которая всегда с тобой, намертво примотанная цепкими стеблями обиды, даже в манящем загробье? Так и будешь до последнего стараться запродаться подороже всем вокруг, а потом стыдливо прятать глазки.
Надо подняться на ноги, чтобы пойти вежливо и нагло - разом, в причудливом сочленении - исследовать случившуюся жилплощадь, игнорируя хозяина.
Мереру страшно интересно, на каком он нынче свете. И лучше бы выяснить это сейчас. До того, как накроет откатом, и захочется сгинуть с глаз всех разумных мира… ну, хотя бы под эту роскошную кровать.
– Там пауков нет? – это, конечно, очень важно! И достойно траты одного из дозволенных вопросов. Лимит ему не обозначали, но он же должен быть? – А то я их не люблю. Противные твари. Похожи чем-то на того манекенового мальчишку в моем храме, который все рвался на мое место и льстился при первой возможности к папенькиной символической бородке.
Декоративные птицы, низаные золотом, даже замолкают - ошалело.
То, что богу, кем бы он там ни был на самом деле, Мерер не равен ни секунды, он мастерски игнорирует. До сих пор не прибил и дальше не прибьет. Наверное.
На постельной подушке выбита причудливыми нитями какая-то мифическая история, даже следов которой жрец никогда не встречал. Он роняется, уже до последней скудной черты обнаглев, в чужие перины, зарывается в пушистый хаос носом, добывая вторую часть истории, обнаруживает, что должна быть ещё и третья, и наконец поднимает на хозяина уже более осмысленное лицо, слегка подкрашенное топким и мучительным смущением.
Слегка. Не слегка. Все кажется слишком странным, чтобы думать о пристойностях, слишком серьезным, чтобы о них не думать, раз уж научили, и слишком утомительным. Под ребрами, в самом центре человечности, что-то на последнем глотке воздуха трепыхается, вымаливая хоть немного определенности.
Смотрят на него будто бы недобро. Но лениво и милосердно. Полновластным и очень сытым хозяином охотничьих угодий, по границе территорий которого беззаконно топчется что-то хрупкое и безобидное, только почему-то не доводящее до тихого смертоносного бешенства.
Извиняться за расхлябанные потоки сознания Мерер определенно не станет. Толку от этого мало. Лучше ещё раз обласкать старосветскую шероховатость подушки.
Благостная прохлада пола давала силы, освежая воспаленную чужой магией кожу и возвращая энергию, потраченную на переход, но сердце еще заполошно билось, а в висках холодело. Лерайе обреченно прокатился затылком по ковру и следил за восторженными перебежками возбужденного писаря с изумлением и некоторым облегчением. Лучше уж так, чет истерика.
- А, - оскорбленно подал голос, - без шакальей головы я тебе недостаточно хорош?!
Сумрачный демон присел и оперся лопатками на сундук, с интерес пощупал ссадину под волосами, забранными в тугую толстую косу от затылка. Иссиня-черные пряди были унизаны золотыми бусинами.
- Да тут только выйди на улицу, через раз встретишь тело с головой свиньи, сердцем свиньи и душой свиньи.
И с руками из жопы – буквально.
- Бегемота, скарабея – кого захочешь. Знаешь, у каждого есть маленькие слабости… - он вперился в мальчишку обиженным взглядом и теперь этим взглядом что-то дразнил, дергал там в глубине. - Это не стыдно.
Обсуждать заклинания Лерайе не спешил. Надо сперва разобраться, что это за щегол и как его варить. Принялся складывать разбросанный папирус с интересом поворачивая листки. При жизни он говорил на паре наречий Междуречья и египетский слышал лишь мельком в доме Имхотепа, когда новые гости с родины хозяина надеялись что-то утаить, понижая голоса в беседе между собой.
- Нет там пауков, - глянул под кровать, стоявшую на небольшом постаменте на высоких резных ножках. Только история про мальчиков в храме и не хватало! Про учителей в храме, про маму, папу и торговцев на рынке! Он как раз подумывал о том, чтобы кого-то усыновить на излете второй тысячи лет собственного существованию.
В каком возрасте у людей формируется внутренняя речь? Это дитя, вообще, замолкает?
Под жизнерадостный треп писца, еще_не_маркиз собрал папирус и сунул книгу в сундук. Пошатнулся, оперся ладонью на крышку, все еще проживая неприятную слабость, наложил на сокровищницу проверенные чары и только теперь сообразил, что мальчишку бы надо опечатать.
- Погоди, погоди, не спеши на улицу купаться в желаниях. Поди сюда, - он цепко ухватил пацана за руку повыше локтя, повернул к себе, усаживаясь на постели, и требовательно окунулся пальцами в его волосы, вжимаясь ладонью в лоб, чтобы спутанные линии судьбы вмазались в область несуществующего третьего глаза. На миг гостю могло показаться, что он моргнул – темнота гипнотических зрачков напротив уронила его в скоростной тоннель непроглядного. – Я поставлю на тебя печать. Поставил. Она убережет тебя от опасных столкновений. И поможет найти дом, если заблудишься. Погостишь пока здесь. Поможешь мне разобраться с книгой, раз уж принес. Вдруг там есть интересное?
Нынче это одна из древнейших печатей Немуса. А в те времена еще не слишком ценная, определяющая человека, как собственность незначительного демона, которую, конечно, всякий может присвоить, но хотя бы подумает дважды.
- В противном случае мне придется запереть тебя в доме ради твоей же безопасности, пока ты не поймешь, как устроен этот мир. Он немного не таков, как ты привык, слышал или читал. Никто не рассказывает людям всей правды и никакой правды.
- Господин! Господин! – дверь распахнулась и в комнату ворвалось причудливое создание, полупес-полубелка в нарядном нагруднике из перламутровой чешуи, вросшем в тело, оно перебирало четырьмя лапами косиножки в такой стремительной иноходи, что невольно налетело на стену и продолжило свой путь по потолку, пока с подноса, который существо тащило на вытянутых передних лапах, на начали отвесно падать предметы. Пауко-белка мгновенно оказалась на полу, чтобы подхватить их все - ап! ап! ап! – и подобострастно растянулась на полу, выставив поднос пред собой.
- Опоздал, господин, - бубнила белка в пол. – Не встретил господина! В добром ли здравии? В добром ли настроении? Успешно ли путешествовали? Это что?!
Только сейчас, очевидно, сообразив, что его господин в комнате не один, существо подалось назад и уселось на колени, подозрительно рассматривая писца. Лерайе всегда знал, что нельзя их распускать и позволять личные грезы на счет владельца, чтобы потом не сталкиваться с этой ревнивой ноткой, но забывал вовремя подтирать в памяти у слуг, а после вынужден был осознавать, что каждая косиножка воображает его в своей мутной койке в темном паучьем углу. Омерзительно. Омерзительно в этом было вовсе не искаженное тело беса, а внутреннее ощущение собственной залапанности, сотен липких чужих отпечатков на коже, которое иногда тошнотой подступало к горлу.
- Это мой новый секретарь, Саргон. Поможет мне с документами.
Секретари сохраняют секреты, ораве нет?
Саргон явственно не понимал положение секретаря на постели и смотрел обличающе.
- Накрой ужин в саду.
Потеряв на этом всякий интерес к косиножке, Лерайе налил себе кубок темного, густого вина, смутно напоминающего венозную кровь, вина и приготовился было выпить залпом, но потом обернулся – не от в конце концов недоумер сегодня.
- Выпьешь? Надо отметит твое втрое рождение.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Свеженький - случайный, как зимнее утро! - “господин”, одолев свое усталое не-вдохновение, всё-таки долепливает на горящий лоб констатацию права собственности. Это занятно. И только капельку унизительно: не до гадкой дерущей дрожи, а легко и нежно. Будто просто что-то новое поселилось в зыбковатом нутре, освещенном тевтонской суровостью местного неба. Все должно бы пугать, но хозяйская солнечная франтоватость - и его же зримое неудовольствие от дистиллированной недобровольности - позволяют продолжить смотреть на мир распахнутыми глазами. И вообще, никого даже с кровати до сих пор не согнали!
– На улицу я пока точно не собираюсь, – мягко пожимает плечами Мерер, нахально подсовывая подушку под голову поудобнее и краешком сознания отслеживая чужую реакцию. – Тут где-нибудь водится библиотека? Только не сейчас!
Сейчас мягкое марево хозяйской постели видится значительно более привлекательным. Можно лежать, рассматривать причудливый потолок с извилистыми - окрестными ли? - пейзажами и крапинками неясного творческого порыва. Привыкать к знаменательной белокожей прохладе!
Если вырос в песках, все не-жаркое кажется солоноватой изморозью.
А ещё привыкать к мнимой безопасности. Кому он тут нужен? Никому. Ни-ко-му. По крайней мере сейчас. Даже собственному хозяину: все потенциально полезное в - секретаре? серьезно? снова? здесь их хотя бы не принято убивать в рамках ежемесячной акции “зачисти кого-нибудь, а то распустились тут”? - он пока талантливо пропустил меж пальцев, не запутав в мелком сите метафорической розовой изгороди. Это и изумительно!
Да и если все местное население похоже на этого слугу…
Самому бы в такое не переродиться. Если тут, конечно, можно перерождаться. И дело не в ломаных контурах тельца, а в манере речи, напрочь сжигающей накинутый шлейф мнимо ясного сознания. Костлявая тупость под химерическим черепом весело выскалилась - и сгинула обратно, едва лизоблюдская пастишка схлопнулась. Только взгляд остался.
Забавная тварь смотрит так, будто хочет согнать Мерера с постели своего обожаемого господина на коврик - и для верности потоптаться сверху. Без особых личных обид - просто потому что может себе позволить.
– Здесь работают наши амулеты? – дурость опять вынуждает задавать необдуманные вопросы. – Ну, не против кого-то опасного, там явно нужны ваши знаки. И технологии другие, наверное. А против… такого.
Земное ксенофобское отвращение - извечную первую реакцию - скрыть не удается, но “господина” это вроде бы веселит. Не развлекало бы - отослал бы уже своего питомца ко всем чертям! Он от повадок собственного слуги тоже, кажется, не в восторге..
Поэтому темному вину с искристыми проблесками в ровно-бордовом теле жрец искренне рад. Царские чаевые - вежливая ритуальная компенсация седневных моральных неудобств. Даже разумное опасение, что от загробного хмеля может сделаться вовсе не лучше, проскальзывает мимо сознания. Будет и будет, в самом деле. Это вчера можно было привередничать. А сейчас есть задачка поинтереснее - с гордым именем “не сойти с ума”.
Собственное будущее Мерера не то чтобы не волнует - но все его прогнозы кишат клише, очень дешёвыми клише. И от этого даже увлекательный букет божеского вина в первом кубке некрасиво горчит и схлопывается. Во втором и третьем он, впрочем, ведёт себя значительно воспитаннее. “Признал гостя,” – фыркает про себя маленький доблестный жрец. Отгоняет подальше нелепой шуткой лениво-сознательное “а пить кому-то ещё учиться и учиться”. Наука не из сложных. Придет со временем.
От хозяина дома тянуще пахнет миррой и непорочными тонкими лилиями. И сбившийся переплет бусин изредка позвякивает в густой косе - отзывается на движения. Смотрит он всё ещё пристально, с необидной насмешкой и тревожащей - особенно сквозь винную пленку - трезвой задумчивостью. Болтать больше не хочется, хотя назадавать вопросов лишним бы не было. Неопределенность умеет добавить вагнерианской патетики даже мелочам. Вроде пирожковой начинки. А тут речь вроде бы и не о пирожках.
Книжку он, допустим, прочитает. Разъяснит все тонкие места, подсветит тонкости, расскажет о магических свойствах трав и нильского песка, придумает парочку - пару десятков, если хоть что-то расскажут! - новых заклинаний. Сам не опробует: не будут же его учить местной магии? Пустая трата ресурсов. Но теоретические построения вроде бы всегда выходили верными. Это даже сложным не будет: Мерер искренне благодарен сейчас прекрасному богу. И будет рад оказаться полезным. Это тоже капельку унизительно: всегда хочется быть не полезным, а просто нужным. Но в этом унижении есть красота уже более определенная. Ультимативная, жёсткая, темная и полупрозрачная, как сплавленная сахарная корочка. Его не тянет избежать любой ценой - и это пугает.
Но дальше-то что? Как? Куда?
Поплывший мир рассыпается на безумные алмазы, каждый из которых соучастливо всматривается в лицо и услужливо отражает его растерянность. И привычная одежда как-то нелепо жмёт. И все уже не так, но “не так” не белоснежное и забытливое, а то, после которого хочется бесконечно вымачивать себя в купальнях, растворяя гадостность бытия в теплой пахучей воде.
Библиотека. Ты умер, чтобы снова оказаться в библиотеке? С другой стороны, оказавшись в аду в свою очередь, Шамхат снова нашла себя в борделе. Меняться сложно. Есть в человеческом мышлении особенное свойство идти проложенной, хорошо знакомой тропой, и мы редко делаем резкий поворот, если кто-то не задаст нам бережный или совсем не бережный импульс. Лерайе рассматривал мальчика. Хорошенький. Так и сгниет в библиотеке, но водить его в люди не стоит, затаскают по койкам, и все тайны рассыплются, как медяки и кармана. Даже жаль будет, если никто не подберет. Но сперва демон намеревался выжать из книги все, что ему обещал Имхотеп. Тот, конечно, мог и упасть с лирическую аллегорию, но Лерайе не прочь поработать над чарами. Он странным образом талантлив. Если в мире есть судьба или предназначение - кайрос? - храм Изиды выбирал своих жриц неслучайно. Даже если им не давалось посвящение в темнейшие тайны, это были девочки особого свойства.
Не исключено, что частью его таланта было необыкновенное упорство в достижении желаемого, стремительно мотавшее время в неудачных экспериментах, пока цель не будет достигнута. Сейчас еще_не_маркиз знал, что хочет схождения мертвой армии, но не хочет конкуренции в воинствующими домами. Оружия в руках с роду не держал и не понимал стратегии, а более всего потому что не было в нем требуемой полыхающей жажды боя, которая вдохновляла многих демонов, бывших и при жизни великими на ратном поле.
Его страшная армия должна быть страшна иначе. А главное – никто не должен претендовать на эти души, все они должны быть изначально помечены его собственным проклятием и в чем-то непривлекательны для прочих владык преисподней. Есть ли в арсенале мальчика чары, сеющие мор достаточно отвратительный, достаточно увечащий и остаточно страшный, чтобы принести Лерайе сытный урожай в первую же жатву – вопрос, над которым они поработают. Нельзя начинать с малого. Тебя успеют затоптать. Если ты выскочка, выскакивать нужно сразу и высоко – не догонят.
Он рассматривал мальчика в подушках.
- Приготовь купальни, - отмахнул обескураженному Саргону.
- Амулеты могут работать, но совсем не так, как ты ждешь. Я бы не рисковал. Магия здесь другого толка, во все здесь внесено искажение, отличающее этот мир от реальности. Если тебе нужен амулет, я сделаю его тебе сам. Какой ты хочешь?
С некоторым неодобрением он позволил мальчишке истребить кувшин, не успев испробовать из него ни капли. Но это простительно. Тот даже не умер в естественном понимании вещей. В каком-то смысле он украден и не проделал путь через предместья ада в толпе больных, изувеченных, израненных и одряхлевших. Так до людей смысл доходит лучше. Интересно, что сделалось с его телом там, в храме?
Лерайе отнимает последний бокал у гостя и опрокидывает в себя залпом. Боль в затылке меньше не становится
- Хватит. Пойдем. Приведем тебя в порядок. Здесь мода более эклектичная, чем тебе привычно. А мне бы хотелось, чтобы все в этом доме было красиво. Здесь бывают… полезные гости. Те, кого я сюда приглашаю, должны захотеть возвращаться. И ты теперь часть всего этого, такая же неотъемлемая, как купальни, подушки, сад, библиотека, вино или я, понимаешь?
Хозяин дома двинулся прочь. У него, кажется, была особенность двигаться к личным целям с полной уверенностью, что все заинтересованные последуют без повторного приглашения. Пока они пробирались резной колоннадой, выходящей отсутствующей стеной во внутренний сад, Лерайе продолжал говорить.
- Тебе действительно лучше проводить время в библиотеке. Позже я найду тебе подходящую компанию думающих людей, в противном случае через несколько смертей – а умереть здесь очень легко - ты начнешь превращаться Саргона или что-то подобное. Он очень удобный, быстрый и ловкий, исполнительный. Но это все. Если ты хочешь сохранить светлую голову и приятное тело, тебе придется над этим поработать. Но, мне кажется, за исключение изобретательных фантазий о высших, ты вполне прилежен?
Лерайе обернулся на пороге, и ароматный пар пахнул в лицо гостя из распахнутой двери.
- Я понимаю, что ты вырос в знатной семье и привык к почестям иного рода, но здесь тебе придется принять новые правила. Надеюсь, твое образование и воспитание позволят тебе найти выгоду и прелести нового положения и поступать наилучшим для тебя образом.
На этой равнодушно-нравоучительной ноте хозяин дома повел обнаженными плечами и развязал каласирис. Тонкая драпировка потекла вниз по поджарым, иссиня-смуглым бедрам, оставляя мальчишке смотреть, как его неожиданный господин погружается в густой пар, как его жадные витые щупальца блуждают по коже, и под ними проступает испарина. Позже гость привыкнет, что слова и действия пока_еще_не_маркиза зачастую имеют два абсолютно противоположных вектора, оставленных собеседнику как ловушки и испытания самого разного толка.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Часть всего этого. Неотъемлемая часть. Какая страшная, вопиющая странность - как тень и свет, круто замешанные друг с другом в один противоречивый цветок - быть принятым просто так. Как есть. Так можно? Почему? Откуда? Как можно оказаться важным элементом чего-то прекрасного, ничего ещё не сделав? Не считать же выглотанный кувшин вина и запачканную песком постель за деяния.
Дворец ведь красив. Своей инаковой - по сравнению с сыпью привычного - прелестью. Тащить в него храмово-библиотечное дурноватое что попало, да ещё и возиться с ним потом..
Игрушка из него так себе. Только если красиво одеть. И рот заткнуть. Намертво.
– А какая тут мода? – слова царапают горло и выбираются на поверхность с трудом, будто через барьер прыгают, а мысли хмельно путаются, бултыхаясь тяжелым комком. – А. И амулеты. Амулеты. Ваш исполнительный смотрит на меня так, будто хочет сожрать. Хочет потому что может, а не потому что я ему сразу не понравился, но всё-таки. Думаю, некоторые способности, пригодные для того, чтобы сделать что-нибудь незаметное и не фатальное, но неприятное, у него есть. Как и у его сородичей. Мне хотелось бы этого избежать.
Собственные просьбы почему-то всегда кажутся неоправданными. Даже если просишь о мелочах.
– Там можно взять за основу нашу структуру шену, только смешав в центре привычные мне символы с вашими, усилить это, – Мерер задумчиво водит пальцами по воздуху, пытаясь выловить остатки рококошных небесных материй из купальной влаги, и мало что вокруг сейчас вообще замечает, бесстыдно и непочтительно пропуская мимо ушей драгоценные воспитательные моменты. Благо, хозяин дома стоит к нему спиной. – Местных активаторов я не знаю, но в книгах же должен описываться хотя бы принцип подбора? Или здесь все работает без них, только на намерении?
Единственный заученный способ справляться с неласковой реальностью вытягивается луговым сквозняком из всех щелей. Если ты не в состоянии контролировать ничего вокруг себя, остаётся один путь - изучать окружную балованную неопределенность. Замыкаясь не на возможности ее изменить, а на бесконечной медитации на собственный разум.
Впрочем, с чего она стала неласковой? В загробье - как хоть мир называется на самом деле? это вообще можно выговорить? - довольно уютно. Красиво. Недурной климат - золотые мягкие сгустки света вились, кажется, по галерейному полу, иногда музыкально попадая в ритм шагов. Есть книги и заботливый господин - от “господина” Мерера до сих пор передёргивает, но это должно пройти со временем. Его не торопятся использовать в своих целях, пускать в расход и варварски и безэтикетно есть на ужин.
“По крайней мере не без варки, – осторожно коснуться дивной разводистой воды, тихо посмеиваясь над собой. – Не без варки со специями. Интересно, что добавлено в воду?”
Хозяин притягивает взгляд. Но это понимается как-то запоздало и отрешённо: люди хотят коснуться богов, пока представляют в часы преприятного замирания, что они - такие же люди. Просто чуть-чуть сильнее и удачливее. С геральдической вековой крепостью, непременно мудрыми глазами и вежливым самодурством. А когда кто-то такой вдруг оказывается перед ними, предсказуемо теряются. И в вязкой указующей силе, которой плевать на все их сладкие чаяния, и в эмоциях, перебивающих все, что может выдать за правду-истину любое липковатое воображение.
Разве что высший протянет руку первым.
Тогда человечий ступор слетает быстрее.
В воду Мерер всё-таки влезает, растерянно помедлив. Долго и заторможенно стягивает с себя тряпки, запачканные стеклянной крошкой из взвинченного калейдоскопа самоощущений, и выдыхает почти испуганно, оказываясь в воде. На почтительном расстоянии! Снова пережидая приступ острого желания вдариться в проклятый ветвистый вопрос “и зачем я вам?”
Как же без него обойтись?
Простота хозяйского обращения бывшего жреца обманывает мало. На это его тощенького жизненного опыта, далёкого от мелких неприглядных чёрточек, ещё хватает. Зато никогда не будет хватать на то, чтобы принимать любовно выставленные маркизом ловушки и разнобезобидные шутки легко, не влетая в стену под тяжестью наотмашь оброненного самолюбия, которое он раз за разом будет бессильно не-поднимать сам. Странная господинская важность - шквалистая и арабесковая - въедается в кожу, маскируясь под водную рябь. Даже обжигающий душистый пар проходит полузамеченным.
Можно было бы переложить навалившуюся окончательность неясных нервных перемен на вино и смутную смерть.
Интересно, к ней вообще можно подготовиться?
– Сюда можно забрать... – Мерер потерянно щелкает пальцами и озадаченно и забавно сводит брови, подбирая слова поприличнее. – Материальное? Привычное? Как хотят наши цари и чиновники, свозя в гробницу все лучшее в доме. И существуют ли разные пути для тех, кто верит в разное?
В уникально правдивой незыблемости собственных верований почему-то начинаешь сомневаться, обнаружив в великом бессмертном боге высокогорную вельможную нежность и манеру менять священные облики.
Блаженная влажная мгла купален заглатывает их целиком. Больше здесь ничего не видно. В этом молоке лишь смутные тени над водой и тихая музыка, льющаяся ниоткуда. В пространстве бассейна, в темной глади от угла до угла так далеко, что можно не встретиться даже взглядом. По этой таинственной и жаркой воде плывут крошечными флотилиями лепестки, неузнаваемых цветов. Тонкие пятна масла на поверхности позволяют догадаться, что в воду оно добавлено. А что добавлено еще? Крошечные гейзеры нежно ласкают поясницу и руки струйками щекотных пузырьков. Мир никогда не был так хорош, как в этом здесь и сейчас, полный пьянящей головокружительной истомы.
Лерайе смывает в себя песок и пустынный ветер, окунаясь в воду полностью, с головой. Мгновение смотрит на пузыри воздуха, поднимающиеся к поверхности, невольно отзывающиеся в памяти многочисленными возрождениями так, что хочется торопливо ощупать себя, чтобы убедиться в мягкости кожи и естественности рельефа. Но он не делает этого. Не делает трусливым усилием воли. Лишь лениво блуждает ладонями по телу, чтобы убедиться, что ни одна песчинка не станет на нем жемчужиной.
Это еще не дворец. Это дом в оживленной части Себастиса. Лерайе очень далек от величия. Так далек, что сейчас лишь робко мыслит о нем в серьез. Его положение скромно, он помощник градостроителя, ровно такой же буквочей при Имхотепе, как мальчишка при своем Анубисе. Но осознавать эти мелочи гостюю не нужно. В этом доме, в этом бассейне происходят столь увлекательные встречи, столь веселые праздники, что о нем ходит своя особая слава. Хорошая слава. Все, что похоже на веселье и красоту в Вавилоне в особенной цене. В здешних знойных и пыльных краях мало умельцев. А Лерайе умеет принять от увлекательный вид богемной твари, который заставляет оглядываться дважды, легко отвлекая зрителя этой пестрой ширмой с рисованными птицами от мистерии, что творится за ней.
Хозяин дома слушает мальчика выборочно. Тот поймет все рано или поздно, но не прямо сейчас. И уж точно не сию минуту.
- Магия здесь – путь личного совершенства ее носителя, - он выныривает под дробное пение капель и прогоняет воду с лица. – Если ты можешь контролировать дом, это твой дом. Если город – этот город твой. Если у тебя есть силы на нечто большее…
Откинувшись на покатый мозаичный бортик, он всматривается в ароматную плескучую мглу.
- Ты можешь делать все, что угодно, но, если ты не имеешь сил, знаки останутся знаками, а символы символами. Ты можешь не начертать ни одного, но перед тобой падут города. А если ты хочешь особое, новое, еще никем не тронутое знание во всем его величии, его придется создать лично, как паук, который плетет свою паутину сам в сухом углу. Поди сюда?
Ему не скучно наблюдать, как в мелком бассейне гость плутает в пьяном тумане в любопытной попытке ориентироваться на голос.
- Тебя всегда учили, что у твоего тела есть душа. Но это не так. У твоей души – есть тело. Словно одежда, которую ты сбрасываешь в предсмертии, точно перед сном, если нашел в себе силы. Здесь ты уже без одежды. Ничего из того, что ты видишь и чувствуешь, не материально. Все этого лишь сила чье-то воли, создавшая прекрасное и удивительное, искушающее и смиряющее с бесконечностью, с вечностью твоей души. Ты научишься понимать этот мир иначе. Научишься потом. Сейчас ты спешишь жить.
Поймав мальчишку за запястье, он привлекает его к себе, тянет, рушит в поющую, теплую воду между своих бедер и мгновение задумывается о том, сможет ли мальчик, пишущий в храме срамные сказки, ласкать его ртом под этой водой с коротким правом на вдох. Мысль о трепещущей, узкой гортани восхитительна в паре агоний, но это дурное гостеприимство. И демон сперва находит ртом его губы, вспарывает их языком, как ножом добытчики вспарывают жемчужницы. Движения в воде мерны, стреножены. Спутанные руки и бедра мажутся друг о друга, втаивают бархатной кожей, пока ладонь не ляжет между ног гостя, чтобы ласкать его в неторопливом влажно ритме спутавшихся языков и сбившегося дыхания. Сперва костяшками по внутренней стороне поджарой ляжки, а после, забирая его жадно в обхват разгоряченной промежности.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Мерер позволяет себе расслабленно опереться на бортик и закрыть глаза, вслушиваясь в мягкую переливчатую музыку хозяйского голоса. Что-то внутри звенит - между хорошо определенным и знакомым сердцем и странным местом, где находится душа, - и ломается с треском, и находится наконец. Можно долго метаться бездомным котёнком, и обнаружить место, где ты станешь своим, в масляных лиловатых потеках и обстоятельствах настолько странных и королевственно свиристелевых, что не останется никаких сил удивляться. Выпрямляется спина - по особому, так, что в развороте сквозит задушенная в песчаном прошлом, замершая до поры родовая властность. И странное чувство накрывает непреклонной мантией, твердя “ничего из того, что видишь сейчас, тебе уже никогда не будет дано потерять”.
Мерер не очень верит этому странному: для него “не дано потерять” - царский подарок, ничем не заслуженный. Отказаться он не захочет, даже если мог бы, но поверить в его существование странно, страшно и будто бы пока незачем. Интуиция и при жизни не была его сильной стороной: слишком мало случалось поводов для ее пробуждения. И ещё меньше - для пробуждения хоть шаткой, но веры в свои ощущения, горящие маяками.
Мозаика вдавливается в спину, царапает нежную кожу, выбивает на ней витые скрытые метки, в которых власти больше, чем в любой магической печати. Здесь все обволакивающее и остроугольное разом. Не завернешься в кокон, уплывая в вечный сон, но и не сбежишь, не выдержав бесконечной колкости больших и малых неудобств.
Покусывает достаточно, чтобы чувствовать себя замечательно живым.
К дивному указательному “поди сюда” он тянется, как к райской музыке, не давая себе труда что-то осознавать. Тычется в мутную парную преграду, впервые узнавая - до подлинного знакомства ещё жить и жить, - о молочном рассветном тумане с примесью травной сочности, сквозь который пробивается золотистое солнце. О ласковом и настойчивом, о порядке вещей, отличном от всего, что было с ним раньше, о том, как хорошо и правильно идти на голос своего солнца, которое вольно казнить и миловать.
Мерер становится собственностью - или это называется иначе? - по-настоящему. В своих глазах и в глазах сил, стоящих выше богов, демонов и всей этой чуткой вертоградовой суеты. Сейчас. В день своей смерти, бесстыдно засмотревшись на изящное лицо, подернутое дымкой прихоти, противоестественной нечеловеческой чистоты и мягкого остывающего пара. Видя в нем что-то, что никогда не позовет вслух по имени.
И это светлое случившееся, которое он никак не хочет назвать, не может - в отличие от печати - никуда исчезнуть.
Он оглушенно стоит в зарябившей воде, удерживаясь на ногах одним занятным волевым усилием, и никуда не идёт. Даже совершенным мирам нужно время, чтобы выстроиться вокруг нового центра, не слетев с катушек. А он определенно от белоснежного совершенства - да и от статуса “маленький мир” - далёк.
Падать рядом, прикасаясь к существу, ещё пару десятков минут назад бывшему святыней, до которой никак нельзя дотронуться, неожиданно легко. Мягко ноет тянутое запястье, и поцелуи ложатся индиговым дурманом, в котором всегда не хватает воздуха, но хочется не дышать, а чтобы эта тягучая, блаженная и яркая явь никогда не исчезала. Послушно и завороженно тянуться ближе, втаивать, вжиматься, жалобно и почти неслышно всхлипывать, слишком быстро забывая о неизбежной прозрачной сдержанности. Ощущать чуткими пальцами, неловкими от неумения, не загрубевшими от бесконечных рукописей, что рядом с тобой.. - и не додумывать мысль.
Вокруг сверкающих, как взбесившиеся огни, чувств, мягко кружится бархатистая пелена странного - робкого, но очень живучего - глупого самодовольства. Короткого и изодранного ощущения взаимной нужности, мнимого секундного равенства и пробивающих кости невозможных крошечных крыльев.
Нельзя об этом думать - свихнешься от своей гротескной глупости, насмешливо косящей на счастливого обладателя и оправляющей ладно посаженное светлое пальто. Не сейчас. Чувствовать все равно не перестанешь. Только отравишься неуместным фальшивым здравомыслием, когда в нем нет ровно никакой потребности. Трезвый ум, каким бы ценным ни был, не единственная всемирная добродетель.
На беспокойство ещё и о том, знает ли хозяин обо всех смазанных тревогах, помыслах и спутанных желаниях, сил не остается. Даже если они тянутся по лбу беспощадно откровенной бегущей строкой - пусть их. Стыдиться и этой порывистости уже поздно.
Нужность и впрямь существует. Но когда мальчишка поймет, как она не взаимна, как она оскорбительно не равновесна, будет поздно, но все равно больно. Поэтому Лайере хочется, чтобы она вскрылась сейчас, когда этот побег еще не успел прирасти неправильно.
У всякой бывшей потаскухи, ставшей волею случая или земных усилий хозяйской собственного борделя, отношение к девочкам, мальчикам и прочим странным, обитающим в клетях питомцам бывает ровно двух видов. Это он изучил за собственную горестную и не очень опрятную жизнь. Новорожденная хозяйка либо сочувствует и становится мамкой на три четверти и тогда идет в убыток. Либо пытается мстительно занять долгожданную и желанную позу клиента, смотрит на них, измученных неумением встроиться в мир, с той же пренебрежительной жестокостью, с которой некогда смотрели на нее саму.
Лерайе волей или нет, относился к своим домашним, к своим рабам и вещам, как относятся к чертежным принадлежностям иные инженерных дел мастера – все должно быть аккуратно заточено, чтобы служить своей цели, опрятно пересчитано и сложено в уютные коробочки. Неважно плетешь ты эти корочки из интриги, шантажа, лести или соития, они должны нравиться инструменту. В том, что касалось его собственных дел, которые не демонстрируются гостям вечеринки, любовникам или умельцам оказать протекцию, он был строг чрезвычайно, признавая за всяким право на существование, лишь если это существование приближало его к цели. Даже если нынешняя краткосрочная цель – отдохнуть. И когда мальчик осознает это, он может бесноваться и бунтовать, оскорбиться, уйти, бросить вызов, предать, мстить или попытаться забыть. Все это в равной мере будет для него сложно. Потому что ни одна паутина не обходится без яда.
Ради отдыха еще_не_маркиз предпочел бы спуститься в грязные, путанные улицы на западе, поискать смачного, мерзкого в районе порта, запутаться среди дешевых борделей, пыльных, как все в Вавилоне, любоваться диковатыми уродливыми случками, больше похожими на поглощение пищи, изжелто-кривыми зубами тварей, вмазанными в свежую плоть, лихорадочными цепкими лапами, следами когтей на бедрах шлюхи, больными метками сифилиса на лицах – неизбежным клеймом опыта, знаком качества, соком подтекающим по грязным бедрами в рывках на бесноватой сцене, когда представление можно не только пощупать, но и поучаствовать в нем. Запутаться, потерять себя, слиться в немом экстазе с этот шелудивой толпой и побыть собой хоть немного, не выдерживая грациозной повадки, нарядной маски, найти себя после израненным и потрясенным новыми впечатлениями. Нового с годами становится все меньше и хватаешь его все алчней. Это похоже голод. Это он и есть. Но нельзя позволить голоду себя вести, имея цели и более честолюбивые.
Не сейчас. Не сегодня.
Там, где рука касается кожи, у основания члена, нарастет золото. Тугое золотое кольцо пульсирует и течет вверх по рельефу вен по шелковой шкурке, чтобы вырасти в украшение, изумительной нежностью линий повторяющее детальную форму естества, вслед за пальцами. Бархатное и влажное внутри, оно мягко сжимается, забирая мальчишку проникновенным и долгим поцелуем, вторящим вкрадчивой путанице языков. Тот поймет случившееся не сразу. Потом, чуть позже, когда руки «господина», мягко очерчивая разлет плеч, скатятся ниже, чтобы найти запястья и увести их за спину. Неторопливо, ненавязчиво. Там, где ладони касаются кожи, рождаются широкие золотые браслеты. Единый браслет до середины предплечья, изукрашенный иероглифами и эмалью, рисунком, украденным с колоннады храма. Много ли он помог тебе, светлое дитя? Жаль, что мальчик этого не увидит. Но Лерайе исключительно эгоистичен в удовольствиях.
Ладони утекают обратно от локтей к плечам, путая руки золотыми тонкими нитями, прочными, невесомыми, безболезненно создающими сияющую шнуровку, завершенную ошейником, врастающую в него. От ошейника падет на грудь пёстрый усех.
- Не нужно об этом думать, - голос гипнотизирует. Не утешает и не ободряет. В нем будто бы нет интонации вовсе. Но звучит он где-то в сознании, словно рождается внутри головы, словно выплетен из собственных мыслей, минуя сито критики и весы доверия. Потому что поцелуй еще длится, упоительный, плавный в путанице дыхания. Бесконечно долгий он, кажется, был здесь и прибудет всегда. Или солнце остановилось, чтобы придержать время в часах.
- Все, что я у тебя заберу, тебе сейчас не понадобится.
Демон, наконец, отрывается от губ послушника и накрывает ладонью его глаза. Из-под руки течет золотой обруч, нежный, как тончайший шелк, рисующий контур скул по нижнему краю. Слово они играют в прятки. Мальчику придется научиться верить. Что бы прикосновения и шорохи не шептали ему, какие бы страхи не гуляли в его взбалмошной голове, нет в его мире больше опоры надежнее, чем его хозяин. Так есть и будет, пока силы не переменятся.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Если про маркиза Мереру и случится в тумане будущего понять что-то не слишком очевидное, не им самим взлелеянное в очарованных головах паствы – это определенно будет не пассаж об утилитарностях.
“Господин” всегда на сцене. Всегда царит, пленяет, играет в анаграммы на всех мировых языках, держит в обманчиво тонких пальцах судьбы и души, распоряжается ими, как рачительный хозяин, ранжируя по степени полезности, шлифует и докручивает до своего идеала. И всегда капельку лукавит. Даже наедине с собой. По привычке?
Его игрушки и инструменты - игрушки не более, чем палево бесплотные святые - игрушки и инструменты единого и единообразного бога, о котором Мерер ещё ничего не знает. Он привязывается к ним больше, чем когда-либо будет готов признать, и это не привязанность к уютно эклектичной подножной подставке или удобному шарабану.
Хотя и такое использование - тоже божья любовь, хоть и sans façon. Все зависит от придуманных скрытых смыслов. А скрытые смыслы человек, перелопативший уйму свитков в магическую зебровую полоску, не может не уметь готовить.
В голове жреца есть маленькая установка - немного унизительная, но в целом приятная и отчаянно мешающая считать ритуальные неравновесности неприятностью с фатальным оттенком. Его не унижает всякое - затененное или нет - служение достойному господину и почти не унижает вульгарность безразличия. Разве что немного ранит, если ночь особенно лунная. Не унижает, не пристает несмываемой грязью, не заставляет сбегать на край света, выжигать воспоминания и сменять светлые чувства на темные, скрипя зубами и утробно подвывая от смыва дорогого душе и ужасно неудачного эпизода своего байопика. Защита это или мудрость - все неважно, несущественно, пока пристальный сытый взгляд маркиза скользит по телу и мыслям своей собственности, внося порядок в разлаженные места, звучащие не в такт.
Господина Мереру не выбирать снова и снова, хладнокровно меняя, когда - если - предыдущий износится и устареет. Здесь даже абсолютное доверие не обязательно. Оно просто льстит обеим сторонам негласного договора.
Только рассказывать хозяину об этом ни к чему - в ближайшие тысячи этак три лет. Все равно не поверит. Не тот склад ума.
Но доверие, которое чужие руки сейчас талантливо и неуловимо привычно вылепливают из пустоты – несколько другого толка. Здесь ни к чему мягкое внушение, тянущееся к центру души: он готов поверить, замереть и закрыть глаза и так. Но податливо гнуться, подчиняясь сторонней воле, выпрашивать мягкие касания, всплески вязковатой магии и внимание - такого, ласкающего как тень, не может быть много - всегда приятнее. Мереру слишком нравится ощущение, что нежданный господин знает о нем больше, чем он сам. И сейчас увидит, читая в украшенных мажеской позолотой изломах и ритме сбитых вздохов, как в освещенном оконном проёме, не больше - а вообще все, все, что когда-то было. Не о мире в целом: это было бы не так сладко и страшно, хоть и неизбежно логично. Именно о нем. Ещё одна маленькая простительная слабость. Их у него с пару сотен. На все случаи жизни.
Скользящий по разнеженному распаренному телу металл кажется более плотным продолжением воды, а не оковами: чтобы понять, в какие украшения уронила его мелодичная хозяйская прихоть, Мереру понадобилось бы зеркало. И какое-нибудь средство, способное вернуть хоть на пару десятков секунд ясность взгляда. Но веры в то, что при этом он не решит закрыть глаза, нет ровно никакой.
Сложнее всего отпустить на волю желание чувствовать себя безупречно, заученно красивым. Без этого не выходит верить совсем-совсем, по-настоящему. Так, чтобы отдать прозрачные лоскуты контроля не усилием воли, а лёгким движением: ровно таким, чтобы хватало только на игрушечное падение в подставленные руки. К уверенности, что красота бесконечно сильно зависит от контекстов, могут прийти не все, и Мереру она чужда. Черта изысканно неудобная, но имеющая, как и все в мире, свою славную оборотную сторону: разглядеть, нахмуренно посмотрев через нее, чужие сомнения, и не ошибиться иногда даже проще, чем свои. Видел ли это странный бог сразу? “Что он вообще во мне нашел?”
– А дальше? – голос звучит странно, слишком звонко и неровно. В голову приходит нелепая и пугающая фантазия о возможности остаться так - вежливо и ласково скованным в оттенках фиванской фрески - на срок, который подскажет гибкое хозяйское воображение. И слишком быстро перестает пугать. “Даже если, – заполошно констатирует Мерер, уже чувствуя, как остатки бесполезного здравомыслия наконец осыпаются под мягким и непреклонным орнаментом замысла, отбирающим крохи определенности и контроля, за которые он так испуганно и изысканно цепляется. – Пусть он знает, как надо, правильно и хочется”.
Подобие самостоятельного решения приходит своевременно - ему самому уже не хочется ничего, кроме возможности растянуть этот момент на пару-тройку жовиальных - но-и чистых и вертлявых - вечностей, зная, что уже не будет ни стыдно, ни плохо, ни мучительно и мерзко “не так”.
Послушный, незряче бредущий в густом ароматом паре, сперва узнаваемый как контур и очертание, а после как тень и изваяние, мальчишка кажется погруженным в трансовое церемониальное бдение из тех, что храмовым отрокам зачастую знакомы с самого раннего начала послушничества. И позже в ногах, и позже спутанный золотым шитьем, нарастающей на нем клетки, писарь больше не кажется живым. Для мальчишки это восторженное служение.
Лерайе видел в своей жизни довольно мужчин, желавших этой восхищенной покорности, и с теперь с молчаливой насмешкой мог перебирать лица. Сам он впервые стакивался с этим безукоризненным поклонением и принял его как точку нового отсчета и как испытание с нею связанное.
Ему и прежде подчинялись, перед ним преклонялись, ему стремились услужить, но человечно и в ожидании взаимной услуги, принятия, приглашения, допущения руку и губ в промежность, украденного кошелка, списанных знаков, - использования того рода, которое ничем не удивляет, ничем не прельщает и не обязывает, которым мы обмениваемся всякий день на рынке тщеславия.
Никогда еще Лерайе не поклонялись как богу, которым ему лишь предстояло стать. Оказалось, что безропотность, возлагает на тебя все, что ты привык делить. И эту ношу нужно уметь нести. А что же будет дальше?
Прикосновения ткут тонкую золотую нить, точно вечный паук выплетает мир из ничего, и в густом пару, когда в контуры тела снова и снова теряются, его можно выследить проблесками золота, пробивающего кожу до пунцовой испарины везде, где блуждают по телу легкие пальцы, плавные в теплой воде. И тело это, пойманное в нитях за каждую мышцу, за смуглую, выжаренную солнцем кожу, делается марионеточным и одновременно предметным. Тихая, скулящая, ноющая боль делает мир осязаемый, более реальным, чем он действительно есть, ощутимым, очень четким, полным контрастов и яркой очевидности перехода. У твоей души есть тело, и тело это неважно, незначительно, может быть уязвлено и переменено многократно, пока душа не достигнет совершенства.
Лерайе придерживает мальчишку за горло в обхват золотого обруча и опрокидывает на спину в теплую воду, в расступающиеся нежными лепестки объятия темноты, в мрачную и восторженную агонию завершенного в легких воздуха. Вдавливает его в плоть бассейна и проникает в этот трепещущее атласное тело, обращенное в золотого угря, лишь потом, когда сознание его переполнено жаждой жизни, острой потребностью рваться из пут, выйти из себя, за пределы телесного бытия. В равных, раскованных движениях бедер больше витального в этот миг, чем в любой осанне, больше боли, ужаса, недоверия и принятия. Трепета, жара и оторопи тоже больше. Мир вокруг его члена еще никогда не был таким живым, хаотичным мечущимся и священным.
Они завершаются одновременно – жизнь и оглушительный жженый экстаз демона. И вместе погружаются под воду. Мальчик, чтобы вынырнуть целым и обновленным, отсчитав свою первую смерть в домашней купели. Не потому что Лерайе богат, а потому что его покровители могут позволить комфорт для него и в первую очередь для себя.
А хозяин дома, чтобы смыть с лица набежавшую испарину и, обернув вокруг бедер тонкую ткань, пройти к купели и встретить новорожденного там со всеми почестями, которые диктует для этого часа скромная вавилонская традиция – с водой, лепешкой, финиками и оливками.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Умирать, потому что так решил о тебе позаботиться тот, кого ты назвал своим богом, не страшно и почти не больно: чуть-чуть противно и тянуще режет по рёбрам непониманием сути замысла, но эта царапина быстро затягивается тоненькой пленкой стыда за маловерие. За то, что не ценит, как должно бы, все крохи доставшегося недостойному смертному внимания.
Мерер не отличался особой религиозностью при жизни, даже будучи жрецом. Ощущение прикосновения к божественному - новый для него мир, пахнущий золотом и вящей славой, и он слишком поглощён открывшимся звонким чудом, чтобы всерьез задуматься о своей прозаической сохранности. Стремительное навечное расставание со своей - отдельной - ценностью, доживающей последние мгновения самостоятельного существования вместе с маленьким глупым телом, которое бессмысленно то ли рвется, то ли сжимается, то ли тянется к капризно-властному, несмотря на боль. Расставание с желанием дышать, если твое божество тебя покинуло. Расставание… много-много расставаний, и жизнь здесь - далеко не главная потеря. Несмотря даже на то, что про возможность перерождения Мерер, поглощенный хмельной меланхолией, слышал слишком оборванно, чтобы всерьез о ней помнить, когда воздух в лёгких стремительно заканчивается, и не-гордое тело бьётся о неосязаемую преграду путаницы магического золота.
Больше всего смешит - где-то на краю мозга и видимости, - что чувствовать в себе хозяйский член сладко, остро и невообразимо, неприлично приятно.
Интересно, он получит свое обновлённое имя сегодня же, следом за ритуальным приветствием и обещанным лёгким ужином в саду?
Мерер, даже став Мизерере, никогда не полюбит этот момент. Умирающее сознание, вымаливающее ещё один, последний, всегда самый лучший и пыточно короткий, миг, горькая жалость о бесконечном неуспеянии, обречённая безумная надежда, что сейчас, в эти оставшиеся две секунды, случится чудо, и эти же, равнодушные, руки выдернут, спасут, дадут жить и дышать, даря омытое слезами облегчение - и ещё более горькое, чем жалость, последнее осознание, что умирать сейчас все равно придется, сколько ни тяни, сколько ни проси о защите, сколько ни верь. Раз за разом, в бюрократическом благообразном безразличии, в “порядке вещей”, всегда похожем на призрак “окончательного решения”.
Единственное, чем ты можешь спасти себя от агонии, всегда растянутой на миллион маленьких мерзких вечностей, - последним усилием воли втолкнуть в затапливающую все вокруг воду свеженькую, с иголочки, любовь к хозяину. Чтобы лилась в лёгкие, заменяя собой воздух. Вырезать наживо часть личности, которая ещё хочет дышать и жить, и не даёт отраве нежного боготворения пропитать собой все, и заменить это - живое и мятежное - на рабскую покорность и издевательски калечную, красивую в своем больном ломаном уродстве, грязно-чистом, как испятнанный проказой юродивый, почтительную страсть.
Пропустить по кровотоку и умереть в задушившей благодарности за собственноручно причиненную тебе смерть.
На что только не идут люди ради анестезии, бессмысленно распахивая выцветающие глаза.
Мизере никогда не расскажет, что и до какой степени сломалось в нем в первую - вторую за сутки - смерть. В аду это не принято.
Помнит ли о себе что-то подобное маркиз, он спрашивать тоже постесняется.
“В такие моменты хочется услышать какое-нибудь “все, все закончилось”, – думает он, и рвано хватает воздух - вдруг снова не драгоценный - обнаруживая себя в купели. – Услышать. И поверить, упустив, что люди - да и нелюди - о своих словах и обещаниях обычно забывают при первых признаках подступающего удобного случая”.
Нефтяной жар купели возвращает мальчика освобожденным от магического золота, но не от участи имени и голода. Не от памяти о его первом рождении в Преисподней.
- Мы повторим это еще сотню раз до того, как ты войдешь в силу.
Лерайе помогает ему выбраться из бурлящей темной воды и забирает мягким шерстяным отрезом.
- Нужно поесть.
Помедлив в этом объятии, они опускаются на кушетку. Здесь, в отличие от большинства домов Себастиса, многое устроено на ранний римской манер, от этого дом гостеприимнее и куда наряднее. Во дворе, который просматривается сквозь открытую дверь, сухой ветер качает пальмы, и угловатые тени крон роняют прохладу во внутренний дворик.
- Прости. Мне спокойнее убивать тебя лично, - забирает губами пересохшие губы. – Я дам тебе имя Мизерере. Сейчас это сочетание звуков ничего не значит, но пройдут века, и оно будет на устах у каждого в вещном мире.
В жизни Мизерере будут разные дни: страшные, сложные, удивительные, полные отчаяния и полные триумфа, но ни один не запомнится так, как этот.
Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?
Вы здесь » Dominion » Личные истории » Суд Осириса